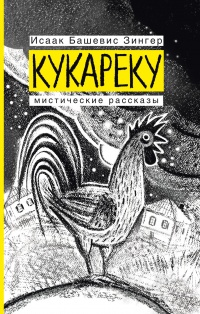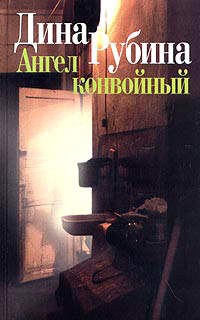Книга Бутырский ангел. Тюрьма и воля - Борис Земцов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Намертво врос в память и ещё один эпизод, связанный с Дедом.
Как-то на вечернем разводе, когда отряд топтался на отведённом ему квадрате плаца и ждал, пока сойдётся проверка, Николай ни с того ни с сего крикнул через несколько рядов разделявших нас арестантов:
— А, земляк, вот сегодня сон видел… Будто я на воле иду, и ты навстречу… Нарядный — джинсы, курточка типа бархатной… Довольный такой идёшь…
И засмеялся своим трескучим, но при этом совершенно незлым, очень искренним смехом…
А вот тут пояснение неминуемо.
Очень многие люди, попав на зону, становятся сверхчувствительными, сверхчуткими, сверхранимыми.
Иной арестант под воздействием лагерной обстановки просто превращается в комок нервов, точнее его нервы превращаются в комок проводов, где каждый провод без оплётки и под напряжением. К любому пустяку, к любой примете, к любому сюжету, во сне увиденному, у него самое трепетное отношение. Порой от подобной мелочи настроение на три уровня подняться может, когда внутри и фейерверк и музыка сразу. Соответственно, и наоборот случается. Из-за какой-нибудь ерунды арестант в такую дремучую тоску может впасть, что только и остаётся, что следить за ним круглосуточно, как бы он ненароком не вскрылся, не вздёрнулся.
Так что такой оптимистичный сюжет (ты — на воле, здоровый, довольный, в хорошей одежде), подаренный персонально тебе, свой срок начинающему, матёрым авторитетным зеком, дорогого стоит.
И это «дорогое» эквивалента ни в деньгах обычных, ни в чисто лагерной валюте (чае и сигаретах) не имеет.
Несидевшему этого не понять, не оценить, а сидевший, скорей всего здесь только молча головой покачает.
Счастливый сон, мне посвящённый, увидел Николай Харлашкин в начале сентября.
Вскорости началась утомительная и совершенно бессмысленная для него чехарда со скитаниями по больничкам всех калибров, с неоднократными уточнениями диагнозов, с повторными анализами всех видов и с нарастающим ощущением стремительно приближающегося конца.
В начале декабря стало уже совершенно ясно, что Харлашкина непременно актируют, оставалось только уточнить дату, но в этот самый момент посыпались, как шарики из разломанной погремушки, прочие проблемы.
Оказалось, что предусмотренный законом механизм попадания домой освобождающихся с зоны для Деда не годится.
«Не доеду!» — решительно замотал он головой по поводу перспективы возвращения домой в плацкарте поезда «Мелгород-Москва». Билет актированным, как и всяким прочим освобождающимся, покупала, разумеется, лагерная администрация.
Другим и единственным вариантом сокращения расстояния до Москвы для Николая оставалось такси. За уже собственные, понятно, деньги. Стоило это, как минимум, тысячи четыре рублей. В семье Харлашкина, состоявшей из не блещущей здоровьем жены и не окончившего школу сына, таких денег и близко не было.
Оказались неимущими и вольные друзья нашего смотруна.
Не сразу отозвались и местные блатные. Это только в лагерных курилках бывалые сидельцы с многозначительным придыханием «втирали» зелёным первоходам: «Пацаны на воле всё могут…, любые вопросы решают…».
Хотя, в конце концов, именно кто-то из местных криминальных авторитетов выделил необходимую сумму. Был выделен и тот, кому было поручено встретить уже освобождённого Николая в лагерной проходной и усадить в заранее подогнанную машину.
Помню, как через пару дней после этого, мы звонили совершенно вольному, но смертельно обречённому Харлашкину домой в Москву.
Разговаривали по очереди. И я хотел произнести что-то дежурно ободряющее, что обычно говорят, точнее откровенно врут, в подобных случаях. Тогда Дед на другом конце эфира упредил все мои желания, выдохнув хриплым речитативом уже знакомое: «Всё болит, земляк, всё больно…».
Ещё через три дня стало известно, что Николай умер.
Затеяли было по этому поводу чифирнуть всем отрядом, помянуть универсальным арестантским напитком смотруна уже бывшего, да… не сложилось… Обрушился в тот день на нас внеплановый шмон: дюжина совсем незнакомых мусоров (то ли работники соседней зоны, то ли прикомандированные из соседней области) три часа остервенело переворачивали и перетряхивали в бараке всё, что можно было перевернуть и перетряхнуть. После этого едва к отбою успели порядок навести. На другой же день объявилась в зоне проверка — комиссия из областной управы. Опять весь день кувырком: беготня, уборка пожарная и много прочей суеты.
Снова не до чифира.
Так и не помянули мы смотруна отрядного.
Впрочем, не знаю кто как, а я и без этих ритуалов помню его до сего дня.
Почему помню, ведь встречались мне за время моего срока куда более колоритные люди, не знаю. Глупо было бы пытаться здесь что-то объяснять. Память человеческая — организм самостоятельный, сама выбирает, что хранить, что выбрасывать. На своё чутьё полагается. А чутьё это — безупречное.
Не видно ни пасти его, ни клыков, ни когтей.
Виден только громадный, лоснящийся в дождь, запудренный горячей пылью в жару, прикрытый утоптанным снегом зимой, чёрный бок.
Громадный, чуть вибрирующий от дыхания бок хищника-гиганта, неспешно переваривающего свою вовсе не вегетарианскую добычу.
Чёрный зверь, лежащий на боку.
Громадный зверь.
Настолько громадный, что весь наш лагерь легко помещается на его округлом боку. При этом все, находящиеся в лагере, уверены, будто территория зоны — ровная, как футбольное поле.
Единственное место, где мы, арестанты, напрямую соприкасаемся с этим зверем — лагерный плац.
Верить умным словарям, плац — это военная площадь, место для развода войск. Только это с научной, сугубо вольной, ничего общего с нашей жизнью не имеющей, точки зрения.
Для нас плац — часть пространства, в котором мы отбываем срок.
По сути, это часть территории нашей несвободы.
Вся территория несвободы — зона, а плац — центральная её составляющая. Все общежития, или как принято здесь говорить — бараки, все лагерные помещения, от медпункта до комнаты дежурного «мусора»[62] — всё сосредоточено в серых кубиках-корпусах.
Кубики-корпуса сбиты в прямоугольник единого здания зоны.
С внешней стороны прямоугольника — другая жизнь, иное измерение.
Там — воля, где всё разноцветное, где машины, женщины, где можно много чего делать, где можно много куда двигаться.
Только нам путь туда пока заказан.
А внутри прямоугольника — плац, где много чего, как и во всей зоне, запрещено, но можно хотя бы разговаривать и смотреть на небо.