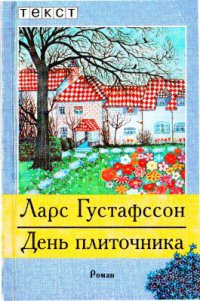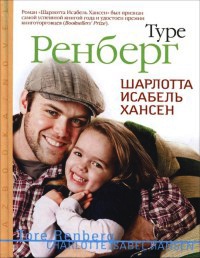Книга Смерть пчеловода - Ларс Густафссон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вдруг в феврале ударит мороз? Что, черт побери, тогда делать? Древесина ульев насквозь пропиталась водой, толь на крышах во многих местах прохудился. Пчелы попросту замерзнут. В наказание за осеннее безделье останусь без трех-четырех семей.
Для моих финансов это значения не имеет, потому что муниципальные власти наконец-то повысили мне жилищное пособие, но пчелы — живые существа, и их гибель все ж таки причиняет боль.
Забавная штука, недавно я говорил об этом по телефону с Исакссоном из Рамнеса.
Когда гибнет пчелиная семья, такое чувство, будто умерло животное. Тоскуешь по ней, как по индивидуальности, почти как по собаке или хотя бы по кошке.
А вот мертвая пчела не вызывает совершенно никаких эмоций, ее просто выбрасывают.
Удивительно, что пчелы ведут себя точно так же. У животных нечасто встречается столь полное отсутствие интереса к смерти собратьев. Если я, небрежно вставляя рамку, раздавлю нескольких пчел, остальные утаскивают их прочь, будто какие-нибудь сломанные механизмы. Но перво-наперво обязательно проверяют соты, есть там мед или нет.
Только подумать, а вдруг они сами воспринимают все это таким же образом? Что индивидуальность, разум, существует в рое, в семье.
Бывают пчелиные семьи с чрезвычайно ярко выраженной индивидуальностью. Ленивые и прилежные, агрессивные и миролюбивые. Даже легкомысленные и богемные, черт их знает, может, есть и такие, что обладают чувством юмора или, наоборот, совершенно его лишены.
Взять хотя бы горячку роения! Точь-в-точь нервный, капризный, нетерпеливый человек. Скверный любовник — никакой выдержки.
А отдельная пчела безлика, словно гайка или винтик в часовом механизме.
* * *
В августе тут гостили дети, и по их настоянию мы затеяли играть в бадминтон. Мне кажется, они, дети разведенных родителей, хотя бы летом были вполне счастливы. Ведь приезжали сюда несколько лет подряд. В июне и в августе.
Так или иначе, когда мы играли в бадминтон, я испытал в точности такое же ощущение.
Но тогда я ничуть не сомневался, что это прострел, и потому скоро забыл обо всем. Решил, что растянул какую-то спинную мышцу. Игру, понятно, пришлось немедля оставить.
Но бывает ли от прострела такая боль, что во рту чувствуется вкус крови?
* * *
Можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов? Я не очень в этом разбираюсь. Путешествиями моя жизнь небогата. Два велопробега по Дании в начале пятидесятых, турнир по настольному теннису в Западной Германии, в Киле, и множество походов в Норвегию маршрутом через Орсу и Идре и дальше, через границу возле озера Фемуннен — все это мало что говорит. Я вообще склонен рассматривать мир за пределами Швеции как нечто литературное, встречающееся в книгах и журналах.
Слишком большие расстояния меня пугают. Париж существует для меня в дневниках братьев Гонкур, самый современный Лондон — в ранних романах Олдоса Хаксли.
Если б я вправду очутился в этих городах, я бы, наверно, заблудился. Счел бы их совершенно чуждыми, посторонними. Вот губернская газета как раз пишет, что в Париже теперь есть небоскребы.
В моей системе время в разных местах течет по-разному. Например, в Париже только-только улеглась цементная пыль Коммуны. А что за время здесь? Здесь — настоящее.
Итак, можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов. Позавчерашняя очередь на рентген в Вестеросской региональной больнице. Невыносимый запах шерсти, сырой шерсти. Множество людей кругом — на стульях, на лавках, повсюду. Мальчик с жутким синяком на всю правую половину лица. Накануне вечером он на полной скорости свалился с мопеда и сильно ушибся. Какой-то старикан из Кольбека, приехавший утренним автобусом. Он очень надеялся вернуться домой с последним вечерним рейсом. «Они тут не торопятся». На этой неделе он приехал уже второй раз. У каждого в руках талончик с номером. Загадки очереди — иногда сестра вызывает одновременно двух или трех пациентов, иногда только одного. Иногда движение на целый час полностью замирает. А как все поднимают глаза всякий раз, когда появляется сестра!
Словно механические куранты, где фигуры передвигаются один раз в час, открывается дверь, кто-то выходит, кто-то входит. Двое полицейских приводят вдрызг пьяного типа с пластырями на лбу, под глазами, на подбородке. Его пропускают без очереди.
Из шести-семи десятков людей в коридоре большинство, наверно, испытывает боль, сильную и не очень. У некоторых это заметно по тому, как они сидят, встают и ходят взад-вперед.
Но разговоров об этом почти не слышно, они даже не говорят, что им больно (а это «больно» может означать что угодно — от легкого недомогания до жгучей боли). Вместо этого говорят о скверном автобусном сообщении, об электричках, о хождениях по врачам. Такое впечатление, будто некоторые из них и живут лишь затем, чтобы посещать больницу. Здесь они чувствуют себя вполне вольготно. Болезнь придает им значимости. Я имею в виду кой-кого из самых старых и самых безропотных пациентов.
Их заболевания вызывают интерес, которого, пока они были здоровы, никто и никогда к ним не проявлял.
Что-то в их терпеливости ужасно меня раздражает, делает агрессивным. Нельзя покорно мириться… С чем? С необходимостью сидеть и так долго ждать вызова на рентген, с до странности безличным, почти индустриальным обслуживанием, где никого не волнует, что они спозаранку дожидались автобуса на зимних остановках и целый день сидят у дверей рентгеновского кабинета, не евши, боясь потерять место в очереди?
И тем не менее всегда присутствует некая солидарность товарищей по несчастью, всегда кто-то обещает кликнуть, если сестра вызовет тебя именно в ту минуту, когда ты вышел в туалет покурить. Или, может быть, я имею в виду, что они должны протестовать против самой боли, не позволяя себе с нею примириться? Пролетарии боли, соединяйтесь!
* * *
WAS MICH NICHT UMBRINGT, MACHT MICH STÄRKER. —
ТО, ЧТО НЕ УБИВАЕТ МЕНЯ, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ.
* * *
Февраль 1975 г.
Потребительская лавка — 375,40
Сахар — 42,90
Табак — 32,50
Гвозди и накладки — 16,00
Визит к врачу — 7,00
Нефть и бензин — 75,00
___________
Итого расходов — 548,80
Союз пчеловодства, бонус + 16, —
Потребительская лавка, мед + 255, —