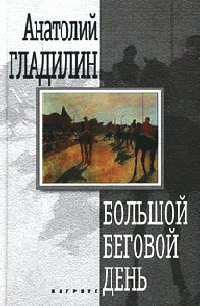Книга Машка как символ веры - Светлана Варфоломеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Судьба Ивакиной становилась все более и более интересной.
– Да ведь она на лыжах пошла и в прорубь провалилась.
Дальнейшее я помню плохо. Я смеялась, громко и заливисто, как будто неизвестная Ивакина подмигнула мне с небес. Я хохотала так, как никогда в жизни, – даже когда накормила сволочь Прунова слабительными ирисками перед четвертной контрольной по алгебре. Почему-то папа нес меня на руках, а я все смеялась, а потом плакала, а потом что-то такое щелкнуло внутри, и я поняла, что в нашей жизни все изменилось, и успокоилась.
И успокоилась. Истерика продолжалась почти два часа, Веру трясло, ее худенькое тело дрожало, и в первый раз она была так далеко от меня. Я была с Машей. Всю ночь я сидела рядом с ее кроваткой. И ни о чем не думала, просто сидела. Жора увез Веру домой. Все кончилось.
У нас перевод из Озерска.
Семь лет, девочка, гемоглобин до переливания 40 г/л, лейкоциты 20 тыс., формулу не считали, тромбоциты – единичные. Без гормонов. Девочка областная. Да, документы в порядке, полис есть. Подтвердите перевод из Озерска.
Из Озерска ехала «скорая», а за «скорой» – пятерка цвета «гранат»; так разделилась наша семья, потому что нас с отцом в «скорую» не пустили. Но Машку мы увидели, и она уже не была такой сине-зеленой и даже что-то сердито выговаривала матери. Это хорошо, потому что злобность – нормальное Машкино состояние.
На самом деле ее зовут не Машка, а хорек, иногда скрипучий, иногда мерзкий, максимум – скунс. Родители, правда, не верят, что у них родился хорек. Но Машка и на самом деле такая, и я ее за это люблю больше, чем какую-либо другую воспитанную девочку. Когда год назад ее обидел отец, она облила его костюм клеем, а когда мама заставляла пить молоко, она вылила целый пакет в окно и попала на голову Лаванде. Лаванда – это вообще отдельная история. Это бывшая мамина подруга, которая… Ну, неважно, что сделала Лаванда, но мы ее не любим, – из солидарности с мамой. А тут еще Машка вылила молоко.
Даже если с ней случилось что-то страшное, она обязательно поправится. Без Машки жить нельзя.
Сначала было очень фигово. Оказалось, что нужно делать всего много и одновременно: готовить, ездить в Балашиху, убираться. До страшного я любила быть дома одна; во-первых, можно ничего не делать, во-вторых, можно сколько угодно болтать по телефону, а можно смотаться или позвать Светку. Но потом оказалось, что одна – это когда скоро придут родители, а позже – и Машка.
Одна – это не так, что папа уехал и не звонит. Он ездил в больницу почти каждый день, меня не брал до тех пор, пока однажды не встретил в коридоре больницы.
– Как ты тут?
– Сама, а сколько можно ждать? Меня не берешь, правды от вас не услышишь, а это, между прочим, не только ваша дочь, но и моя сестра.
Папа сказал:
– Не ори.
Я ответила: «Сам не ори». И с этого момента жизнь приняла знакомые очертания.
– Как ты разговариваешь? – орал отец.
– Как хочу, – орала я.
– Ты нахальная девица, – орал он мне в ответ.
– Какую воспитал, такая и есть, – орала я.
Неожиданно рядом я увидела лицо мамы. Оно было другим, каким-то серым и в морщинах, но это лицо принадлежало маме, которую я не видела уже месяц. Она была другой недолго, ее хватило на пять секунд.
– Орете, – сказала она. – Опять орете, как черти, орете на всю больницу.
– Собаки страшные, – подсказал отец.
– Собаки, – повторила мама.
– Трубы иерихонские, – вспомнила я.
– Трубы, – ответила она.
И мы успокоились. Наверное, это семейное, сначала все орут, потом разбираются, зачем орали.
– Я попросила выйти врача, к нам ко всем сразу, поговорить.
– К нам ко всем сразу, – сказала она.
Я никогда не думал, что так не могу без нее. Что настолько вся моя жизнь пропитана запахом ее волос, ее голосом. Я думал, что уже все знаю про нее и про нас. Но когда в первую неделю я только плакал и жаловался сам себе на судьбу, она все взяла на себя. Это от нее я узнавал, как, когда и что. Ни слез, ни жалоб, ни трагедий.
– Мне сказали, что очень многое зависит от нас. Надо настроиться только на ребенка и забыть о себе. Я забыла.
Потом я почувствовал себя уверенней, но это было очень не сразу, чувство уверенности медленно разливалось по моему телу под ее спокойным взглядом.
В той жизни, еще до трагедии с Машкой, у меня была Лиля, но не то чтобы была, а бывала. Пару раз в месяц, когда было где встречаться. Мне нравилась моя маленькая тайная месть. Я приходил потом домой и не злился на ее упреки и скандалы. Мне иногда казалось, что все можно изменить. Я даже представлял, как Лиля будет со мной жить. Сейчас от нее остался лишь слабый запах цветочно-ванильных духов.
Вышла врач.
Вышла врач. Папе она не доставала до плеча, маме была до подбородка. Я не доверяю людям маленького роста. Это заметил отец.
– Вер, – сказал он, – у тебя все хорошие люди высокие, а лживые и подлые маленькие, почему?
Врач была моложе мамы, но старше врача из другой больницы.
– Это наша, – шепотом сказала мама.
Я почувствовала, как снова в горле заползали муравьи и что ничего хорошего нам не могут сказать. Мимо прошел мужик, у которого из носа торчала трубка, а в горле была дырка. В нос резко ударил больничный запах с примесью тоски и страданий.
– Ну фто? – сказала доктор. У нее был какой-то серебристый, укрытый мехом голос. – Фто? В целом все хорошо.
Я не очень хорошо понимала, что она говорила дальше про клетки, кровь, доноров. Но я очень внимательно рассмотрела ее. Кроме голоса, все остальное тоже вызывало доверие. Она была вся такая уютная, что показалось, на ее плече можно плакать.
Потом я встречала ее много раз, когда приезжала к Машке. Однажды она вынесла целый батон колбасы, чтобы покормить котенка. Котенок был маленький, но наглый. Батон ему в пасть не влезал, и он уселся на него верхом и стал откусывать и облизываться. Рядом сидела неполноценного вида рыжая собака по кличке Чубайс, но наша врач охраняла кошачьи интересы, и собаке не досталось.