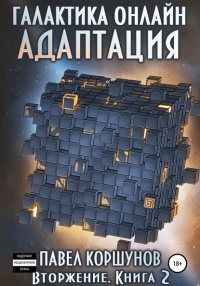Книга Барьер - Павел Вежинов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Спать ее положу, конечно, в холле. В худшем случае украдет одну из эбеновых фигурок, которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было незаметно добраться до лифта. Не то что я уж очень дорожу мнением соседей, но юная леди явно мне не подходила. А вдруг придется взбираться на пятнадцатый этаж после этого отвратительного вермута? Я жил на последнем, надо мной были только небо, облака и холеные, ленивые музы.
Лифт, слава богу, работал. Я открыл дверь и с облегчением ввел ее в квартиру.
— А у вас свет горит! — удивленно сказала она. — Может, ваша жена пришла?
— Не волнуйтесь, — ответил я шутливо. — В любом случае влетит мне, а не вам…
Только теперь я смог ее рассмотреть. Она шла впереди меня немного странной походкой — очень легкой и одновременно скованной, как голубь или чайка, осторожно ступающая по мокрому прибрежному песку. Одета она была в дешевую шелковую юбочку и черную блузку без рукавов, и то и другое порядком помятое. Чулок на ней не было, хотя весна в этом году довольно прохладная. Не было у нее ни карманов, ни сумочки, ни ключа, ни даже носового платка в руках — она и впрямь походила на птичку божию, что спит на ветках деревьев. Доротея опасливо оглядела комнату, потом повернулась, глянув на меня своими прозрачными глазами.
— Как у вас хорошо! — воскликнула она с восхищением.
— Не нахожу…
И правда, ничего особенного. Я не питаю слабости к вещам, а лучшие из них забрала моя жена, и, разумеется, по праву, потому что она их сама покупала. Остались несколько хороших картин на стенах, рояль и на полу венский палас нежного апельсинового цвета, сначала ужасно меня раздражавший. Палас тоже купила моя жена, и притом в валютном, хотя мы уже были в разводе. Она утверждала, что он необыкновенно подходит по цвету к стенам, с той типично женской логикой, которая обязывает женщин шить синий костюм, если у них случайно завелась синяя сумочка. А по-моему, больше всего он шел к густому черному цвету рояля, очень красивого и старинного, прекрасно выделявшегося на его нежном фоне. Доротея подошла прямо к роялю, подняла крышку и принялась внимательно рассматривать истершиеся и пожелтевшие клавиши.
— Это ваш рояль? — спросила она. — Я хочу сказать — это за ним вы сочиняете?
— Да, за ним…
— А он не слишком старый? — спросила она разочарованно.
— Ничего, работать можно.
Она снова подняла на меня прозрачные глаза. Ее застенчивость окончательно исчезла, теперь она держалась непринужденно, словно у себя дома.
— Сыграйте мне что-нибудь, — попросила она. — Хоть немножко… Обязательно что-нибудь ваше.
— Зачем это вам?
— Я хочу понять, что вы за человек… Правда, я в музыке не очень разбираюсь. Но это неважно.
Интересно, что она могла понять по короткому отрывку, эта пиявочка, какой бы симпатичной и странной она ни была? Но от женщин, как я уверился за свою довольно долгую жизнь, всего можно ожидать. Как от моей жены, например. Она ушла от меня совершенно неожиданно, без всякой причины. По крайней мере я так считал. Не было ни повода, ни оснований, не было даже банального скандала или слез, полагающихся в таких случаях, она просто-напросто взяла и ушла. Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову, какой нам придумать предлог для развода. Возможно, теперь она и жалела о сделанном, но она была не из тех, кто останавливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то. Но только выйдя из зала, заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез, — для собственного спокойствия, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слишком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. А я с трудом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один, я сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что у меня творческий взлет.
Доротея стояла передо мной и ждала.
— Поздно, — сказал я неуверенно. — Разбудим соседей.
— А вы тихонечко! — опять попросила она. — Никто не услышит.
Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взглядом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало. Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру, чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант — все равно что думать, будто ветер может сдвинуть с места грузовик.
— Тогда садитесь, — сказал я.
— А где мне сесть?
— Где хотите…
Она села на оказавшуюся поблизости табуретку. Не села, а опустилась на краешек, как озябший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии. Мне плохо работается при дневном свете, и вообще я не люблю ясной, солнечной погоды. По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым днем, когда яркий блеск солнца и краски природы не режут глаза.
И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл все до конца. Пожалуй, я совсем становлюсь похожим на тех поэтов, которых не остановишь, когда они упоенно читают свои стихи. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один. Поднял голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить.
— Понравилось? — спросил я шутя.
— Очень! — воскликнула она.
— А знаете, как это называется?
— Знаю! — просто ответила она. — «Кастильские ночи».
Если бы она меня укусила, я был бы меньше поражен. Дело в том, что пьеса действительно называлась «Кастильские ночи». Но, кроме меня, об этом не знала ни одна живая душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек, а привидение.
— А откуда вы это знаете? — наконец выговорил я.
— Знаю, и все… — И, не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила: — Я не такая, как все… Я сумасшедшая…
Я не очень молод, но и не стар. Прошлой осенью достиг роковых сорока лет, считающихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй, немного старше. Главным образом из-за обильной седины в густых волосах и двух глубоких морщин, перерезающих чуть впалые щеки. И, в сущности, я не такой уж нелюдим, разговариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, которое удачно контрастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки для кино. Не бог весть какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал я и несколько более серьезных вещей, две-три из них широко известны.
От природы я человек здравомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех наук. И полагаю, что сущность природы, в том числе и искусства, составляет гармония. В этом я уверился, изучая простейшие законы природы. И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит, это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня.