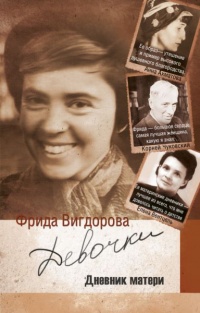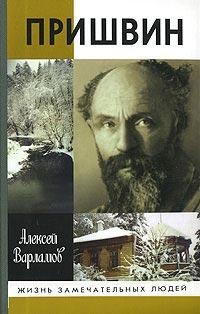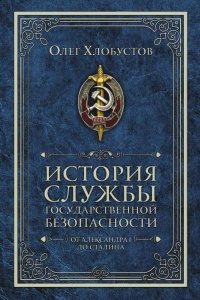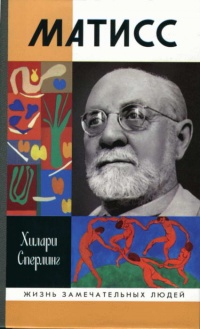Книга Маятник жизни моей... 1930–1954 - Варвара Малахиева-Мирович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На лице его отражается власть очарования моей внешностью.
– Я пришел, – говорит он, – с прозаической целью (тут нечетко помню: что-то о сломанном перышке, о ручке для пера…).
– Что же вы не входите, Антон Павлович? – говорю я. – Разве вы не видите, как я рада встрече с вами? После вашей первой книжки я не переставала мечтать – вот так лицом к лицу с вами побыть и чем-нибудь вам стать нужной – хоть перышком для ручки.
Дальше – чаепитие друг против друга, за маленьким столом, оживленный – с чувством все растущей близости – разговор о его книгах, о двух его пьесах (наяву только что прочитанных мной). И тут же о “каштаново-золотой короне” – и царственной власти ее. Я могла бы воссоздать, но не с помощью памяти, а творческим воображением – длинную беседу нашу, – но мне достаточно того душевно-духовного ощущения, что Чехов вошел в мою жизнь “помимо воли, но всем сердцем, всей душой” (его слова).
Дальше нужно бы или писать рассказ на тему, заданную этим сном, или отметить только глубоко серьезное и радостное чувство, что “вошел Антон Павлович в мою жизнь” – как я даже не смела мечтать: “всем сердцем, всей душой своей”. С этими словами рассказа о нашей встрече с Чеховым кому-то, не то Анне Васильевне, не то Оле (Веселовской) – я проснулась. И целый день жила переполнявшим сердце чувством, что прошло через мою жизнь нечто важное и прекрасное, что не прошло мимо меня то, что называют “счастьем” – и что я к старости стала произносить в насмешливых кавычках, как игру воображения, далекую от реальности.
10.2-21.3.1953
7 марта
Под кровом Оли, Анечки и Иванушки в ожидании, когда они проснутся. Мария Прокофьевна, работница их, предсказала, что “могут подняться только в 1-м часу, если дитё не давало ночью выспаться”.
Движение всей Москвы к Кремлю для прощания со Сталиным вошло и в мою жизнь тем, что загородили дорогу на “жилплощадь” Мировича – единственное место, куда у него есть право в какое угодно время и на сколько угодно времени до самой смерти не быть удаленным. И только по какому-то водевильному штриху моих судеб удаляемой по нескольку раз в год – или из-за того, что Леонилле по характеру ее болезни трудно болеть в моем температурном (холоднее, чем у нее) окружении, или оттого, что несносны для моей гипертонии условия ее недугов.
Но зачем же я пишу об этом в такие дни, когда всем существом душа моя, поскольку она не только моя, но и живое звено с Душой моего народа, – погружена в какую-то безмолвную, пока словами невыразимую Мысль – вернее, Мыслечувство.
В нем есть что-то похожее на то, что было в детстве в дни Страстной недели, когда ее траурно-черный воск свеч, плащаница, погребальные напевы – все это не только рядом – но и по существу неразрывно с Пасхальным Торжеством, с верой в него, с ожиданием на него.
Старость обессилила и обесправила меня жить в днях и в делах жизни тем, за что мне по-родному и по-святому дорог Сталин (“в Боге почивший раб Божий Иосиф”) – но одной из заветных святынь своих осознает душа слова, развевающиеся на знамени, поднятом Сталиным: За мир во всем мире! Аминь.
8 марта. 8 часов вечера
Сильно нездоровится. Чтобы не разлежаться дольше завтрашнего дня – срок, предложенный сострадательно и нежно Олей, которой самой плохо (у нее с сердцем), – пью кальцекс, выхожу на Пятницкую улицу освежить голову. Хочется в здравом виде, хоть бы только в виде, а не по существу дела, попасть завтра на ночлег к Вале (а здесь ночлег вроде моего “жилплощадного” – и холодно, и жарко, и одеяло сползает). А послезавтра – на свою жилплощадь. И оттуда, если не оправлюсь, – это заставит Аллу отправить меня в больницу. Всю жизнь не любила я для себя и даже как-то боялась – больницы. А последнее время моментами она преподносится воображению как нечто отрадное: покой, борьба с набегами мозговой тошноты и клоками каких-то клетчатых блестящих рисунков, которые вот и сейчас мешали писать.
Пантеон Сталина и Ленина.
Бальзамированные тела.
Что-то египетское.
Если бы меня позвали на совещание по вопросу о пантеоне, я бы сказала: Пантеон – величественное здание. Им хорошо украсить Москву – и передать в века родной стране, что сделали для нее в такой-то истории такие-то люди. Но зачем же бальзамировать прах? С закрытыми глазами, с отпечатком смерти и тления (задержанного во времени).
Вместо этого воздвигнуть в Пантеоне их статуи, дать их портреты. Целую галерею портретов из важнейших и трогательнейших моментов их исторического пути.
А тела – предать огню – стихиям пламени и воздуха. Горсточку пепла бережно сложить в мраморной чаше на пьедестале под лучшим из их портретов.
11–12 марта. На «своей жилплощади»
Леонилушке получше. Хоть лицо у нее как у великомученицы. Жестокий недуг – радикулит – ни днем, ни ночью не гарантирует ни одного из движений без встречи с ним, без его стрелы, вонзающейся в поясницу, в спину, в бок.
Сейчас ей получше. С помощью рупора из газеты (ее изобретение) поговорили с ней о текущем историческом моменте в нашей стране. И конечно, о Сталине. При его жизни я понимала его значение для “мира во всем мире” прежде всего. Со времени гудка, возвещающего – тоже мирового значения – потерю в проложении пути к девизу на знамени, какое поднял наш Сталин над всеми народами земного шара, – с того часа, когда Анечка повела меня послушать на Пятницкую улицу прощальный гудок (я ночевала у Веселовских), в глубинах моего самосознания не покидает меня чувство личной потери. И оттого лишь нет в нем ничего мрачного, что сам Он, Личность его, Душа и Дух его для меня не мертвы, наоборот – еще более живы, чем были в здешней, преходящей жизни, перешагнув в жизнь Вечную.
25.3-19.5.195З
27–31 марта. 11 часов…
Так что же было такого, что запросилось бы к моему перу из канувших в вечность и для чего-то мне отмеренных на конце моего пути 5-ти дней с 27-го по?
Что вспомнится.
Что подумается.
Ника поехал все-таки в Загорск. Льщу себя мыслью, что принял это решение отчасти из-за того, что он видел, как отмена этого плана меня огорчила. С отменой решения его я не могла бы уже до Пасхи передать Денисьевне дрожжи и еще кое-что из предпраздничных вещей, которые по безголовости моей теперешней не передала через другого посла моего – Николушку Жениного.
Была большая радость от газетного известия о сокращении (и даже полном зачеркивании) срока наказанным заключенным за свои нарушения закона страны, изгнанным в места более или менее отдаленные. И что самое тяжелое – с лишением свободы.
Осветилась эта радость в личном углу сердца надеждой увидеться с Женей (Николушкиной матерью). Загорелась в этой надежде мысль – вот и кончится круговорот твоих приживаний, “баб Вав” – где бы ни поселилась твоя “зам. дочь”, ее дочерние объятия для тебя открыты – как три года тому назад в день твоего рождения. В переживаемые ею и мной сейчас дни – я знаю: одинаково крепко и свято живет обет: быть мне “до черты”, не покидать меня до конца моей жизни.