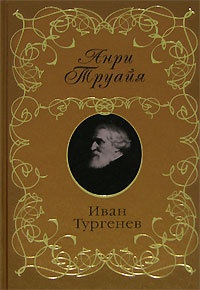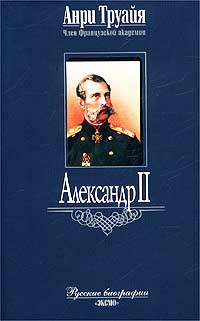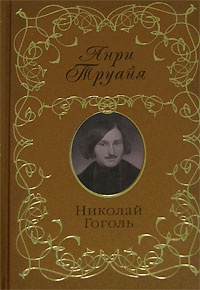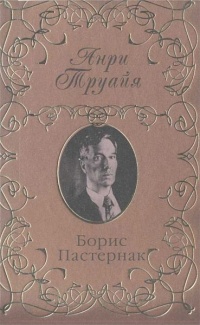Книга Марина Цветаева - Анри Труайя
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но бывало и еще хуже. «14-го ноября. Второй день службы.
Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу».[83]
Под любым предлогом сотрудницы Марины выскальзывали за дверь и обегали все окрестные магазины и лавки в надежде, что «выбросят» хоть какие-то продукты. Марина поступала так же, и порой ее одолевали сомнения, что выбрать: мороженую картошку или яйца непредсказуемой свежести… А возвращаясь к своему столу после бесплодных скитаний, она говорила себе, что потеряла время дважды. В самом деле, платили ей так мало и работа в этом Комиссариате по делам национальностей была такой неинтересной, что одна была мечта: спрятавшись за горами папок с бумагами, писать что-то для себя самой. После шести месяцев такой «бездельной деятельности» в Наркомнаце, потом попытки поработать в картотеке учреждения со странным названием «Монпленбеж», несмотря на то что даже крошечная зарплата, которую она приносила домой, отнюдь не была лишней,[84] Марина все-таки не выдержала царивших на ее «службах» скученности, глупости и зависти, а главное – бессмысленной писанины, которая от нее требовалась, и ушла, не дожидаясь, пока ее выгонят. А вспоминая об этом позже не без юмора, написала так: «Нужно отдать должное: коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежимном учреждении меня бы сразу, разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку. Не вычли (из жалованья, хотя работа была не сделана. – Н.В.). Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела (может быть, злых не видела!). И не их я ненавижу, а коммунизм. (Вот уже два года, как со всех сторон слышу: „Коммунизм прекрасен, коммунисты ужасны!“ В ушах навязло!)». А чуть дальше: «Не я ушла из Картотеки: ноги унесли! Душа – ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт».[85]
Марина была счастлива обрести свободу, потому что, оставляя дочерей дома ради того, чтобы отбыть рабочие часы, она находилась в постоянной тревоге. Конечно, Ариадна выглядела достаточно крепкой, пусть и худенькой, и бледненькой, но вот маленькая Ирина безнадежно отставала и в физическом, и даже в умственном развитии. Все время какая-то полусонная или погруженная в себя, девочка не умела говорить и большую часть времени что-то, раскачиваясь, пела: «слух и голос были изумительные», – писала потом Марина сестре. Скорее всего сказывались последствия полуголодного существования. Но в 1919 году большая часть российских детей оказалась не в лучшем положении. Несмотря на то что в марте 1918 года в Брест-Литовске был подписан сепаратный мирный договор с Германией, условия жизни при советской власти становились все тяжелее и тяжелее. Продолжение Гражданской войны обходилось дорого, а упрямое желание Ленина управлять экономикой в точности так же, как общественной жизнью, усиливало разруху, приводило к уничтожению нации и делало политический террор поистине невыносимым. Простой народ потуже затягивал пояса, согревал дыханием озябшие пальцы и задумывался, должен ли он в своей крайней нужде проклинать большевиков, которые поставили родину раком, сторонников царского режима, которые не помешали им это сделать, или злой рок, который чувствует себя в России как у себя дома.
Марина больше, чем кто-либо, терялась перед сиюминутными материальными трудностями, которые сменяли одна другую. Там, где другие хоть как-то выпутывались, она только еще больше погрязала в нужде. И поскольку она уже просто не могла видеть, как маленькая Ирина, которой вот-вот должно было исполниться три года, чуть ли не умирает с голоду и чахнет день ото дня, то и стала советоваться с друзьями, чем тут можно помочь. Ей дали добрый совет: поместить малышку в детский приют в Кунцеве, неподалеку от Москвы. Там, говорили люди, которым Цветаева безусловно доверяла, за ней будут лучше ухаживать, там ее будут лучше воспитывать, а главное, там ее будут лучше кормить. Уставшая бороться Марина согласилась с разумным на первый взгляд предложением и отдала дочку в приют.[86] Вообще-то, никому в этом не признаваясь, она испытала облегчение, оставшись вдвоем со своей дорогой Ариадной. Ничтожность, безликость, болезненность Ирины были для них обеих непомерным грузом, делали младшего ребенка почти чужим в семье. Было ли это потому, что беременность второй дочерью оказалась тяжелой, а роды мучительными, из-за того ли – когда страдания закончились, – Марина восприняла это дитя как наказание, как результат некоей оплошности? С течением времени то, что девочка становилась все более недоразвитой, стало подавлять ее. Она была слишком горда, чтобы жить каждый день с таким вот разочарованием в своем материнстве. Когда Цветаева была недовольна каким-то своим стихотворением, она засовывала его в дальний ящик, чтобы поскорее забыть о нем. Вот и Ирину она засунула в такой «ящик» – в кунцевский приют. Ей было достаточно Ариадны. Она сделала свой выбор. Раз и навсегда.
В начале февраля 1920 года Аля заболела малярией. Вспоминая, как ее племянник Алеша, сын Анастасии, три года назад умер от инфекционного заболевания, обеспокоенная Марина не отходила от постели дочери. И вдруг, когда голова ее была занята только одной навязчивой мыслью, как спасти Алю, на нее обрушилась страшная весть. Маленькая Ирина умерла от истощения в кунцевском приюте. Цветаева сразу же почувствовала себя виновной в том, что выкинула из дома слабого младшего ребенка, чтобы сосредоточить всю заботу на старшей, на дочке, которая всегда была ее любимицей. Охваченная запоздалым раскаянием, она рассказывает о своем горе в одном из писем:
«Друзья мои!
У меня большое горе: умерла в приюте Ирина – 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия – возвращающиеся приступы) – и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу.
– Помните, Верочка, тогда в моей комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили „может быть“ – и я еще в таком ужасе воскликнула: – „Ну, ради Бога!“ – И теперь это свершилось, и ничем не исправишь. Узнала я это случайно, зашла в Лигу Спасения детей на Собачьей площадке разузнать о санатории для Али – и вдруг: рыжая лошадь и сани с соломой – кунцевские – я их узнала. Я взошла, меня позвали. – „Вы госпожа такая-то?“ – Я. – И сказали. – Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала – у Али в этот день было 40,7 – и – сказать правду?! – я просто не могла. – Ах, господа! – Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной сон, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде – и вдруг – Господи, Боже мой! – Я просто еще не верю! – Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. – Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И – наконец! – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал.