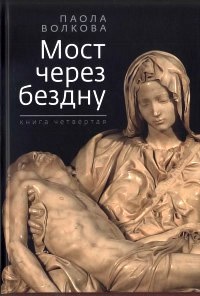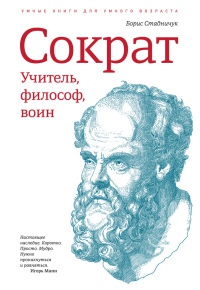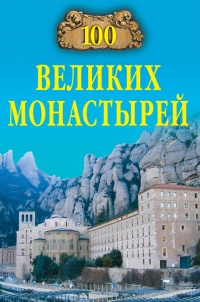Книга Унесенные за горизонт - Раиса Кузнецова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Проводник, как и обещал, устроил меня в жестком вагоне, населенном, главным образом, молоденькими солдатами, возвращавшимися домой после сражений на КВЖД. Я бы изрядно наголодалась со своей половинкой серого хлеба (на станциях колбаса и вобла продавались только солдатам), если бы не соседи, угощавшие наперебой, ― так, на чужом коште, темным морозным утром я прибыла в Москву, всего на день опоздав на Аросино двадцатилетие.
Жил он в маленьком деревянном домике неподалеку от Даниловского рынка. Я знала, что к восьми ему на работу и поднимается он рано, ― времени было в обрез. Мне было очень неловко перед его родителями, но нетерпение жгло. Трамвай тащился целую вечность; в начале восьмого я робко постучала в дверь. На мое счастье, открыл Арося. Его изумлению и радости не было предела. Без всякого стеснения он душил меня в объятиях и целовал бы, если б я позволила, ― а его брат, и отец молча стояли поодаль. Однако они радушно пригласили меня в комнату.
Арося нас познакомил.
― А мама, ― сказал он, на мгновенье потушив взгляд, ― в больнице.
Пока мы пили чай, Арося сбегал к телефону-автомату и позвонил на работу, предупредив, что сегодня быть не сможет. Вскоре я поняла: «любовная переписка со студенткой из Иркутска» отнюдь не секрет в этом доме. Разговор за столом шел о моей «отваге»: ради трехдневного свидания с Москвой ― и такое путешествие! А я смотрела на возбужденное лицо Ароси, на его полные, подрагивающие губы и чувствовала себя совершенно счастливой.
Сначала мы по старой памяти побродили по улицам города, а потом отправились в Бирюлево.
― Надолго? ― спросила мама, вытерев слезы и истово меня перекрестив.
― На три дня.
― Господи! Неужто, кроме как в Сибири, и выучиться негде?
Она сразу забыла, как зовут моего «хорошего друга» и попросила повторить на ушко.
Отец воспринял Аросю на удивление спокойно ― встал, смущенно покашлял, пожал руку и ушел за перегородку.
Пока мы ели, мама молчала и глядела на нас, получая несомненное удовольствие от нашего аппетита, но когда перешли к чаю, вдруг начала теребить передник и смотреть в сторону ― так всегда с ней бывало, когда хотела что-то сказать, но стеснялась.
Я поднялась из-за стола, и мама, опередив меня, жестом поманила в комнату. Отец сидел на кровати. Мама открыла шкаф и шепотом сказала:
― Смотри!
Я сразу узнала огромное зимнее пальто Игоря, то самое, которым укрывалась в поезде, возвращаясь из Полесья.
― В субботу их работница привезла. Вот, тут в кармане записка.
«Брошенные вами золотые мы реализовали и на эти деньги носили Игорю в Кресты передачи. В настоящее время он следует этапом в Соловки. Полагаю, отныне мы с вами в полном расчете. О. Винавер».
― И что с ним, дочка, делать?
― Не знаю, мам. Выброси.
― Может, продать?
― Ну, продай, ― согласилась я.
Арося уехал домой поздно.
― Знаешь, ― говорил он, держа меня за руки и глядя мне в глаза, ― я не был таким счастливым, даже когда в первый раз поцеловал тебя!
Мы не могли расстаться и пропустили сначала один поезд, потом другой. Я, уже почти сибирячка, не на шутку продрогла. Договорились встретиться у театра оперетты.
― Не сомневайся, билеты будут! ― крикнул Арося, свешиваясь с площадки поезда.
И они были в его руках, когда я подошла к театру в условленное время.
Он стоял у подъезда, высокий, красивый, в светлом шарфе, небрежно переброшенном вокруг шеи, ― поэт. Давали «Сильву». Он взял меня за руку и больше не отпускал ― так мы сидели на спектакле, так до полуночи, в клубах пара наших всполошенных дыханий гуляли по зимним улицам Москвы среди обросших инеем деревьев, обледенелых сугробов, редких фонарей, изнемогая от поцелуев, объятий и стихов, и старых, и недавних, присланных мне в Иркутск. Мы наперебой читали их друг другу и, неприкаянные, с завистью поглядывали на розовые и голубые окна, сквозь тюлевые занавески проливавшие на тротуары блеклый свет ― за ними, в тепле и уюте, жили люди, и им не было никакого дела до нашей любви, и это почему-то казалось странным. Я совершенно не помню слов, которыми мы пользовались, ― наверное, наши речи напоминали лихорадочный бред, но, несомненно, главным в том бреду было слово «люблю», бесконечно повторявшееся все с новыми оттенками, то страстно, то нежно, то печально.
Но все время где-то глубоко внутри копошилось шершавое чувство, будто я обманываю Аросю, и, уже догадываясь, откуда оно, пыталась его прогнать. Огромное черное пальто, висевшее в мамином шкафу, отбрасывало свою тяжелую тень на все, на всю мою жизнь, все больше обесценивая и настоящее ― и слова, и поцелуи.
В надежде согреться мы забились в пахучий темный подъезд какого-то деревянного скрипучего домика и, стоя у окошка, матово светившегося инеем от уличного фонаря, я, опуская ненужные подробности, рассказала Аросе об Игоре. Он слушал молча, не выпуская моих рук, и, когда я замолкала, нежно трогал губами мою щеку. Наконец рассказ закончился; Арося притянул меня к себе, я уткнулась лицом в его шарф, и мы надолго замолчали.
― Любимая,― вдруг услышала горячий шепот возле самого уха. ― обещаю, ты будешь самой счастливой! Для тебя я смогу все!
― Но ты еще так молод! А мне уже скоро двадцать два! ― сказала я, искренне веруя, что муж должен быть старше жены.
Арося взял меня за плечи и, отодвинув от себя, легонько встряхнул и, глядя в глаза, сказал:
― Год и полтора месяца ― это глупость, не имеющая ровно никакого значения! Наша любовь ― только она важна сейчас!
И в его голосе была такая убежденность, что я тотчас поверила ― именно с ним суждено мне быть вместе, только он сделает меня счастливой! Хотя... еще вчера считала Аросю наивным, восторженным мальчиком, а свою нежность и тягу к нему ― снисходительным ответом опытной женщины на большое, искреннее чувство.
Расстались у калитки, во дворе дома, где жил мой брат Алексей, с которым я заранее, по телефону, договорилась о ночлеге.
Уже почти светало. Брат, одетый в исподнее, открыл дверь и укоризненно покачал головой:
― Если голодная, ужин на столе, ― буркнул он и отправился в спальню досыпать.
А я действительно была страшно голодна. С аппетитом слопала почти целую селедку, оставленную на блюде, вдобавок к ней ― пару холодных котлет, запила весь этот сумбур тепловатым чаем и улеглась в приготовленную постель. И вдруг жесточайшая боль пронзила меня. Я вскочила и, почувствовав приступ рвоты, бросилась к раковине. Все, что съела, тут же выскочило из меня, но рвота не прекращалась, а отчаянная боль в животе сгибала до полу. Проснулись в доме все. Уложили на диван, обложили грелками, но боль и рвота какой-то зловонной зеленью не прекращались. Хотели вызвать «скорую», но телефонный автомат был далеко от дома.