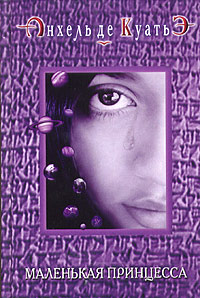Книга Река без берегов. Часть 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга 2 - Ханс Хенни Янн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Один год жизни вырезан из моей памяти. Год между тринадцатью с половиной и четырнадцатью с половиной. Хорошо хоть, что сама привязка ко времени более или менее верна.
Тутайн сказал по этому поводу:
— Природе, вероятно, было важно уберечь тебя от определенных жизненных потрясений. Наверное, овладевшее тобою беспамятство понадобилось еще и для того, чтобы твое сознание незаметно для тебя расширилось и чтобы музыка стала в тебе уверенным чувственным мышлением.
Я отрицательно качнул головой. И рассказал, что помнил. Нико, брат Мими, работал вместе со мной в саду. Острым краем лопаты он нанес мне удар по лицу. Не знаю, как дело дошло до такого. Ссоры между нами не было. Несчастный случай? Маловероятно. Что это была поздняя месть за смерть Мими, еще менее вероятно, ведь к тому времени мы уже были достаточно взрослыми, чтобы понимать: от поцелуя никто не умирает. Нико потом объяснил, что в момент удара он меня вообще не видел. Он, мол, ударил просто так, по воздуху. Скорее всего, это правда. По его словам, он заметил меня только тогда, когда я поднял руку к глазам. Удар пришелся по переносице. Внезапно у меня между пальцами потекла кровь и запачкала мою блузу. «Пойдем, — сказал Нико, — я отведу тебя домой». «Нет», — сказал я, зная, что мои родители отсутствуют. Ключ от квартиры лежал у меня в кармане. Но я сообразил, уже в первые секунды, что мне нужна помощь. Нико тянул меня за рукав. Я не мог посмотреть на него, потому что глаза тоже были залеплены кровью и я их прикрыл. Наверное, я сильно побледнел и меня трясло. Он довел меня до забора. И потом убежал. Соседка увидела, как я там стою. Разглядела издали, в каком я виде. Или просто, как говорят, у нее сердце на правильном месте. Как я добрался до ее кухни, уже не помню. Но припоминаю, что там я сидел на стуле, а соседка прижимала мне к лицу мокрые полотенца; вода в двух тазах была темно-красной от крови. Я знаю, что в какой-то момент потерял сознание. И что меня вырвало. Двое мужчин, справа и слева от меня, повели меня к доктору. Я не помню, кто были эти люди. Доктор и его жена встретили нас у парадного. Жена доктора постоянно повторяла: «Ты теперь должен набраться мужества. Главное, наберись мужества». — Я почувствовал, как хрустнула моя кость. Это была голая холодная боль. Позже я ощущал кожей как бы булавочные уколы. Повязка прилипла ко лбу. Бинт полностью закрывал один глаз. Я отправился в обратный путь один — — и пришел на квартиру к бакалейщику. (Может быть, память что-то подсказывает неправильно.) Там я съел кусок шоколадки с карамельной начинкой. Позже в комнату, плача, ворвалась мама и увела меня. — С этого момента все картины в моем сознании замутнены до неузнаваемости.
— И такое беспамятство длилось целый год? — спросил Тутайн.
— Случилось еще кое-что — тоже в начале того непроглядного года, — сказал я.
Нико повредил мне носовую кость. А из-за неудачно положенной железной решетки я чуть не провалился в люк погреба{76}. Я упал так неудачно, что мне прищемило яички. Боль была бездонной и такой сильной, будто меня ткнули раскаленной кочергой. Я продолжал сидеть на полу, как посаженный на кол, — только весь скорчился, втянув живот и будто силясь защитить рану согнутой спиной и коленями. Посреди этого кошмара я вдруг осознал, что только существо мужского пола может претерпевать такую единственную в своем роде боль: в ее медленных толчках как будто даже лютовала легкая примесь сладострастия.
— Тебя подняли? — спросил Тутайн.
— Я стыдился себя. И потому не кричал. Только стонал. Может, опять потерял сознание. Я лежал, провисая над зияющим люком, пока сам не сумел подняться. Наверное, я потом проскользнул к себе в комнату и забрался в постель. В результате у меня обнаружилась еще и эта болезнь. (О которой я ничего не помню.) Наш домашний врач время от времени меня осматривал и расспрашивал. Но тревогу у него вызывала главным образом лобная кость. Мою промежность он бегло осмотрел только раз, заставив меня полностью раздеться, и, можно сказать, не дотрагивался до нее. Он спросил меня: «С тобой все в порядке?» От смущения я не знал, что и думать, и, чтобы избежать дальнейших вопросов, ответил: «Да». Врач потом периодически повторял, что я лишь чудом не лишился зрения. Позже мама рассказывала мне, что после полученных травм я стал плохим учеником, что мною овладела неестественная забывчивость. Я забывал о предмете, находящемся в моей руке, и начинал искать его где-то в другом месте. Я уже не помню, как в то время родители держались со мной, какие хлопоты я им причинял, ругали ли они меня, наказывали или только тайком проливали слезы. Я поглощал пишу и рос, однако мой мозг не наполнялся картинами действительности и здание познаний во мне не росло. Я не приобретал никакого нового жизненного опыта.
— Человек, который через каждые двадцать четыре часа утрачивает память… — сказал Тутайн. — Ты почувствовал на вкус, какова пища его души, — но ты об этом забыл.
— Но все-таки я и сейчас слышу жалобный голос мамы, которая говорит: «Почему ты ищешь носовой платок? Он же у тебя в руке». —
Я забыл нечто существенное. Того года, когда я перестал быть ребенком, я не помню. Какие бы жгучие боли в промежности я ни чувствовал, предназначенный мне процесс развития не прервался, он только осуществлялся теперь потаенно, и я не мог его с изумлением наблюдать, не мог реагировать на происходящее ликующим страхом или естественным чувством стыда. Когда я был отпущен из этого состояния безответственности, все вещи стали другими на вкус. Я опять сделался хорошим учеником. Вступил в борьбу с новым подлизывающимся грехом. Но я, наверное, тосковал по прежнему состоянию бессознательности. Иногда, зная, что я один в доме, я прижимал к носу и рту ватный тампон, смоченный хлороформом{77}, и втягивал приторно-сладкие испарения, пока этот поверхностный наркоз не возвращал меня в сумеречное царство, где сон, сладострастие, бесконечные просторы и расширяющееся Ничто пребывают рядом друг с другом, а могильный покой сплавляется с колокольным гулом сердечных ударов: где существует счастье как штиль, свободное от вины и тоски.
— Ты был не лишен амбиций, — заметил Тутайн.
— Мне это трудно давалось — вновь обрести себя. Физически я уже был взрослым. Но воспоминания мои оставались целиком и полностью детскими. Я робел и навлекал на себя неприязнь окружающих. Я им давал лживые сведения о себе. Мой дух отличался теперь задиристой резкостью. Я читал и учился{78}. Я запоминал то, что выучивал. Отец, уже отрекшийся от меня (я, правда, не сознавая этого), вновь обратил ко мне свое милостивое внимание. Он пытался поощрять мои старания. Он полностью присоединился к мнению доктора: что прежде я был болен. Я и сегодня чувствую его взгляд, которым он как бы ощупывает мой лоб или шрам на лбу, желая убедиться, что выздоровление окончательно. Рецидивов не было — если не считать тех, что я устраивал себе искусственно, в хлороформном опьянении. Позже я так окреп, что сумел отказаться и от этого.