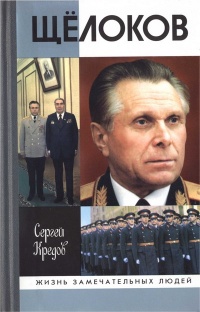Книга Хорошо посидели! - Даниил Аль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Можно. — Трофимов добавил несколько слов к прежнему тексту. Затем все четверо подписали акт.
— Иди и ты подпиши, — обратился ко мне Трофимов. — Напиши, что акт составлен в твоем присутствии и тобою прочитан.
Я подписал бумагу.
— Ну, теперь все. Уводите его.
Двое надзирателей повели меня в камеру.
Как и следовало ожидать, мой рассказ взволновал товарищей по камере. В то время в ней находились со мной старик Фейгин, Лоншаков и Карпов.
Судили и рядили насчет того, «пришьют» ли мне вторую статью — попытку совершить террористический акт против сотрудника госбезопасности или нет. Все дружно, особенно Василий Карпов, осуждали меня за несдержанность, за длинный язык. Старик Фейгин назвал мое поведение глупым донкихотством.
Конечно, теперь, когда я пишу эти записки, можно было бы, поддавшись искушению, умолчать о своих тогдашних ощущениях, и оказаться в глазах читателя таким же смелым и решительным Дон Кихотом, каким я, вероятно, казался своим сокамерникам. Я убеждал их, что иначе поступить не мог — не тот характер. Я убеждал их, а заодно и себя, что совершил подвиг, проучил закоренелого негодяя, что сожалею лишь о том, что не пришиб его стулом.
После отбоя я улегся на свой топчан, отвернулся от света и долго не мог заснуть. Снова и снова я представлял себе происшедшее на допросе, снова и снова корил себя за то, что не сумел себя сдержать, забыл о том, где я, кто я, брякнул себе на беду то, что думал об этом матером эмгебешном волке.
Теперь, когда уже ничего нельзя было исправить, мне стало страшно. Мысль о возможности получить еще одну статью, да еще такую — пугала не на шутку. Я понимал всю нелепость такого поворота дела: ну какой тут террор, или даже намерение совершить убийство эмгебешника?! Но, с другой стороны, я ведь в самом деле пригрозил пришибить его, как собаку.
Обвинение, сфабрикованное на этой, реально прозвучавшей угрозе, будет ничуть не более нелепым, чем те обвинения, которые мне уже предъявляют, и на основании которых меня арестовали. Я поймал себя на мысли — «Хорошо бы меня отправили в карцер и этим бы ограничились».
Надо сказать, что такое свойство своего характера — пугаться задним числом — я заметил задолго до того случая. Впрочем, возможно, это свойство присуще если не всем, то многим. Во-первых, уровень смелости куда выше на людях, чем когда ты остаешься с опасностью один на один. Во-вторых, в момент опасности иногда просто не успеваешь испугаться. Импульсивный порыв срабатывает до того, как успеваешь оценить (рассудить) опасность и ее последствия. В этом смысле — «безрассудство» — очень точное слово. Такое не раз случалось со мной на фронте. Именно такое произошло в тот день. Ах, если бы у меня в тот момент, в кабинете у Трофимова, было время на размышления. Скорее всего, я не выпалил бы того, что выпалил.
Вспомнились мне и хитрые улыбочки моего следователя. Что они значили? О чем свидетельствовали? Скорее всего о том, что Трофимов про себя был доволен тем, что я обложил этого майора. Не хочет ли он использовать этот случай для сведения каких-то счетов с этим старым волком, принадлежащим явно к другому поколению эмгебешников, которое, вероятно, кичилось своими заслугами перед поколением Трофимова. Возможно, и так. Но мне от этого не обязательно будет легче.
Потом я стал себя убеждать, что все правильно, что я держал себя в русле той самой линии поведения на следствии, которую для себя избрал. Ну и пусть дадут вторую статью — намерение (попытка) убить представителя государственной власти! Расстрела — все равно не будет, смертная казнь отменена. Правда, говорят, что это одни слова — могут загнать на такие рудники, где больше четырех месяцев никто не живет.
Затем я стал воображать себе, что произошло бы, если бы Трофимов не удержал майора за руку и тот, подлетев ко мне, замахнулся бы на меня или даже успел бы ударить?.. Вот он подскакивает, замахивается, бьет. Я поднимаю стул, ударяю его с размаху по голове и действительно пришибаю его, как собаку. Надо сказать, что в то время я обладал большой силой рук. Конечно, я был ослаблен за время пребывания в тюрьме. Но все-таки!..
«Нет, — продолжал я свои размышления, — так бы не было. Такого я не могу себе представить. Тем более, что я никогда в жизни не ударил ни одну собаку — ни паршивую, ни аккуратно вымытую и расчесанную. Выходит, моя угроза была всего лишь пустым выкриком, штампованной фразой».
Скорее всего — вот это я вижу, это я себе представить могу — все было бы иначе. Я заслонился бы поднятым стулом, самое большее — оттеснил бы этим стулом нападающего.
На следующее утро, после завтрака, я попросил у караульного, обходившего камеры, бумагу и чернила для заявления прокурору. Заявление, в котором я с возмущением описал вчерашнюю сцену на допросе, очень понравилось моим сокамерникам. А меня начало терзать сомнение — подавать его или не подавать. В конечном счете — я решил не подавать свое заявление, изорвал его и бросил в парашу. Соображений, заставивших выбрать такое решение, было немало.
Даже в своем заявлении я не смог точно охарактеризовать действия своего следователя Трофимова. С одной стороны, именно он своими словами обо мне — «невиданный враг» — спровоцировал майора Горшкова на его устные и физические «выступления». С другой — он решительно удержал его от нападения на меня с кулаками. Кроме того, я уловил, что Трофимов явно недолюбливает Горшкова и свой акт составил с явным обвинительным уклоном против него. Захочет ли и сумеет ли Трофимов на основании случившегося «пришить» мне террористические намерения? Все-таки это мало вероятно. Разумно ли мне, учитывая все это, сплачивать против себя своим заявлением Трофимова и Горшкова? «А что, если, — подумал я, — Трофимов хочет, воспользовавшись данным эпизодом, как-то ущучить Горшкова — то ли по партийной линии, то ли помочь выпроваживанию его на пенсию? Не помешает ли в этом случае мое заявление столь полезному делу?»
Я вдруг поймал себя на том, что, вероятно, и было не сразу осознанным, но главным в моих рассуждениях. Вполне возможным результатом моего заявления могло быть то, что Трофимова (возможно, при его собственной просьбе) заменят на другого следователя. И вот этого я не хотел. Да, совершенно четко: этого я не хотел.
Странно, очень странно устроен человек. С одной стороны, все зло, причиненное мне бесчеловечной машиной репрессий, — МГБ — было сконцентрировано для меня в тот момент в лице Трофимова. Его усилиями, его головой и его руками стряпалось в данный момент фальсифицированное дело о моих «преступлениях», за которые, именно с его помощью, меня на долгие годы «закатают» в лагеря. Соответственно, именно на борьбу с ним, на этот неравный бой, где он — сильный и чуть ли не всемогущий, — будет всячески терзать меня — связанного и беззащитного, — я каждый раз выхожу на очередной допрос. Именно его профессионально отточенное, изворотливое коварство направлено на то, чтобы изобразить меня опасным преступником, да еще и вынудить в этом признаться. Для борьбы именно с ним я готовлюсь бессонными ночными часами. Именно о нем как о своем враге говорю днем с сокамерниками. Это он, Трофимов, отправил меня в ледяной карцер с первого же допроса. Это он выливает на меня черпаки помоев, когда кто-нибудь входит в кабинет во время допроса. И, тем не менее, я не хочу, чтобы его заменили. Я хочу, чтобы он остался моим следователем. Как же так? Почему? Ясно, почему. Каков он будет — тот, другой, который его заменит? Неизвестность всегда пугает. Кажется, что новый следователь будет обязательно хуже. Этого я уже как-то знаю, изучил его повадки и приемы. Конечно, что тот, что этот — результат будет, в принципе, один и тот же. И все же я борюсь, и мне кажется, что эта борьба имеет свой смысл, что я могу, обязан добиваться, если не освобождения, то, по крайней мере, смягчения своей участи, насколько это возможно. К Трофимову как к противнику я уже привык, «притерся». А что, если бы на его месте оказался такой Горшков, или ему подобный тип? Было бы хуже, намного хуже. Да, я не хотел, чтобы мне дали другого следователя. Наименьшее зло! Разве разумно менять его на какое-то большее зло?