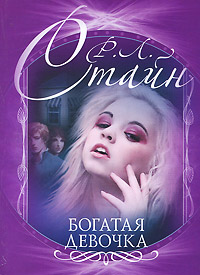Книга Инициация - Лэрд Баррон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Погода была апокалиптической. Застывшие дни, окаймленные серым небом и бурой травой. Жаркие дни, заполненные зноем и мухами. Мухи ползали повсюду, бились изнутри о стекла всех светильников, устилали своими трупами светлые постельные покрывала, льнули к старым оконным сеткам, словно сине-зеленые занавески, наполняя пространство похоронным гулом.
Лютер днями просиживал на крыльце, несмотря ни на что. Все пространство вокруг его ног и цветочная полка над головой были покрыты пустыми и полупустыми стаканами, выстроенными неровными рядами, словно свечи в средневековой церкви. Он восседал в раскаленной голубой тени, безостановочно куря и глуша скотч бутылками без видимого эффекта, одетый в неизменный строгий костюм, которых в его шкафу имелось не меньше десятка. Его галстук был закинут за плечо, глаза за стеклами очков в толстой оправе затуманены. Сквозь защитную дверную сетку из гостиной доносилось потрескивание «Филко» [58], обрывки бейсбольных трансляций. Лютер сиял в этом мертвом свете, тень себя самого, тускнеющая вспышка сверхновой. Ветхость постепенно проступала в чертах его лица, в его некогда изящных руках, испещренных теперь синими венами, с пальцами, превратившимися в узловатые и неуклюжие пальцы отжившего свой век старика.
Дон знал кое-какие факты биографии деда – а в ней было немало интересного. Лютер Мельник был своего рода легендой смутной эры доисторичских времен. Большой дом, построенный его собственным дедом Огастесом весной 1878-го, служил хранилищем и наследием богатой мифологии, пропитавшей историю рода Мельников. Дону нередко выпадала возможность исследовать собрание артефактов, загромождавших кабинет. Дипломы Колумбии и Принстона [59], пожелтевшие сертификаты и пропылившиеся орденские планки. Среди непременных семейных снимков и свадебных фотографий было немало черно-белых карточек, запечатлевших Лютера в компании худого, как щепка, юноши в офицерской форме на фоне экзотических декораций: разрушенных соборов и монастырей, старинных площадей и пирамид, рынков и базаров Старого Света, военных лагерей в пустыне и фортификационных сооружений в джунглях, эскадренных миноносцев и верблюжьих караванов. Все на этих снимках были загорелыми до черноты, все дымили сигарами, все были вооружены и сверкали улыбками, как кинозвезды на съемках исторического фильма, позирующие перед камерой в перерывах между дублями. Сотни и сотни фотографий, которые под конец сливались в один сплошной камуфляжный узор, награждавший Дона головной болью и глубоким сознанием собственного ничтожества. Дед совершал поступки, и эти поступки сформировали и изранили его личность, проникли в кровь, обострили чувства.
Об этой стороне своей жизни Лютер упоминал редко. Он не рассказывал ни о том, как провел год в Китае в качестве агента шанхайской муниципальной полиции [60], ни о сотрудничестве с людьми вроде Фейрберна [61] и Эпплгейта [62], с которыми у него завязалась тесная дружба; ни о своих миссиях во Франции в период Первой мировой. Ни слова не говорил о документах, которые разрабатывал, о слушаниях в конгрессе, в которых принимал участие. На вопросы любопытствующих пожимал плечами и отвечал, что вся его жизнь хранится в армейских архивах – иди и читай. И это заявление, по мнению Дона, отражало действительность как нельзя лучше. Лютер Мельник был раскрытой книгой, и довольно увесистой, но одни страницы были из нее аккуратно вырваны, а другие – зашифрованы.
В то гнусное душное лето 45-го шла кровавая война на Тихоокеанском фронте, конец которой ознаменуют взрывы двух ярчайших солнц: конец войне и конец невинности, пусть даже невинности и дикарского толка. Лютер сам научил его курить. А в один прекрасный день, когда старик был до того пьян, что его дикция стала безупречно четкой, а движения автоматически выверенными, он велел Дону приодеться, усадил его в «студебеккер» и привез в Олимпию. Лютер устроил внуку экскурсию по столице штата и представил небольшой группе пахнущих дорогим одеколоном мужчин в костюмах «Брукс Бразерс» [63] и часах «Ролекс». Эти важные люди улыбались и пожимали Лютеру руку, приветствовали его почти что благоговейно и переводили сверкающие взгляды на Дона, обнажая в акульих усмешках акульи зубы.
Все это время Лютер улыбался механической улыбкой, которая казалась Дону незнакомой и неприветливой, как лед в темных каньонах Антарктики, и обращался ко всем просто по имени. Эта мука длилась долгие минуты, которые складывались в часы. Когда все было позади и они ехали обратно, Лютер, твердо сжимая в руках руль, осведомился, какое мнение составилось у Дона о досточтимых народных избранниках. После того как внук пробормотал что-то невнятное, Лютер кивнул и, не отрывая глаз от дороги, заявил: «На всем нашем говняном шарике не наберется достаточно веревки, чтобы перевешать этих гадов». И разговор на этом был закончен.
Дон побрел обратно ко входу. Кладбище окутала ночь, ожив и зажужжав, периметр очертили фонари. Снова задул ветер, потянуло влагой. Ветви деревьев застонали, как будто обещали: «Возвращайся в свой теплый дом и оставь нас во мраке. Не волнуйся, дружок, в один прекрасный день ты вернешься и останешься здесь на куда более долгий срок».
Спиритический сеанс
(Наши дни)
Приближался вечер.
Холли поехала за «дядей» Аргайлом, поскольку сам Аргайл лишился водительских прав еще лет десять назад. Он проживал в «Арденн-хаус», расположенном в историческом квартале Олимпии, в восточной части города. Утренний потоп возобновился, ветер стал еще более порывистым, дорога превратилась в болото, а «ровер» Холли был самым надежным транспортным средством в любую погоду. Приезд Аргайла опять перевернул дом с ног на голову. Аргайл ввалился в парадную дверь, проклиная богов и погоду характерным баритоном, отличавшим всех мужчин рода Арденов.