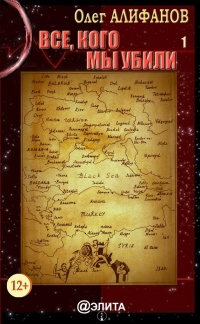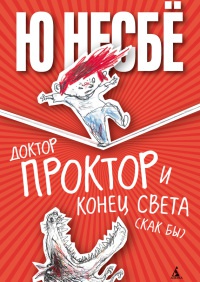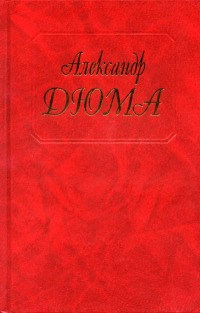Книга Все, кого мы убили. Книга 2 - Олег Алифанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несколько дней он пытался сблизиться со мной, но я не простил ему дикую выходку в Мегиддо, хотя за Дамаск и Яффу не держал обиды. От побоев он с трудом передвигался и сам, правая нога его изрядно распухла, но он не ленился, хромая, приносить мне смоченные в воде тряпки, облегчавшие хоть на малое время моё положение.
– Чувствовали ли вы когда-нибудь такую силу, что способна двигать горы? Такую волю, творческий порыв ощущал я в себе с отрочества. Кто же не знал о Союзе Благоденствия? Немало приятелей моих числилось там. Кое-кто состоял и в Обществе любителей российской словесности. Я же – в Вольном Обществе учреждения училищ по методе взаимного обучения. Впрочем, и туда проник не сразу, ведь я не дворянин. То, куда я попал обучать и обучаться, скоро привело меня к весьма полезным знакомствам. И за некоторые обещания меня представили бывшим иллюминатам, хотя раскаяние их было без сомнения притворным, лишь на бумаге.
Как ни странно, рассуждения его, в ином положении могшие казаться искусственными, здесь не вызывали у меня отторжения. Невдалеке от смерти любая романтическая напыщенность сродни молитве.
– Эх! Поймёте ли вы, что значит ощущать в себе знание, как упорядочить человечество, и не иметь чашки супа; знать, куда вести общественный прогресс и обивать пороги канцелярий в поисках места? Вы, дворянин, ступали по коридорам Университета как равный уже по праву рождения, я же овладевал всем сам по природной жажде знаний. Мне их не хватало, а денег на учёбу я не имел. Случай дал мне многое. Я выиграл в банк. Хотя бы в том, что я игрок, надеюсь, вы не усомнитесь? Сразу много – тысячи три. Другой бы устроил кутёж, но я понял это как перст свыше, уехал за границу, учился, жил скромно, в два года окончил четыре, на меня обратили взор – те, кого искал я сам. Представьте, Петербург полон мистиками и иллюминатами, а я еду в Берлин и Рим, искать их вождей. И кого же я нашёл там? Всё наших же – Голицыных, Волконских да Гагариных. Впрочем, я не гнушался их протекцией и пансионом. У нас надо быть дворянином, чтобы войти в круг избранных к служению свету. Я знал многих из них, Рытин, там полно глупцов, интересующихся потусторонними силами лишь из праздного любопытства страха. Туда мне не находилось дороги. Кроме одной. В Европе можно не иметь титула, чтобы стать почтенным членом общества, даже и тайного. Меня, как я сказал, заметили. Я оказался призван. Но кем! Теми, кого презирал, ведь единственной моей целью было пройти по лестнице их иерархий выше настолько, чтобы, будучи командированным в Россию, свободно войти в круг властителей, но только с чёрного хода, раз парадный навсегда закрыт для меня происхождением. И уж там, как равный, займусь я всеобщим благом. Да, не меньше того: всеобщим. Хотя, как можно говорить о благе для всех членов общества, если отбирая крестьян у ленивых помещиков, последних обрекаем мы на прозябание! Однажды свершилось, они спросили о князе Прозоровском. Я солгал, что служил у него, и коварный рок вместо унылого Петербурга привёл меня в искрящуюся морем Одессу.
Меня сразу очаровал этот магически чёрный человек, который время от времени рассыпался искрами света творения. Своею страстью, превышающей даже мою, образованностью, превыше всякого разумения, пренебрежением к условностям, он вызывал священный трепет. Поначалу я посчитал его нигилистом, особенно когда заметил его читающим статью Надеждина в «Вестнике Европы», прежде чем осознал глубочайшее отличие от сонмищ скептиков. Он никогда не отрицал целого на основании частного. Новое открытие не являлось для него базисом для опровержения всего и вся, как поступают когорты ниспровергателей, особенно если представляется случай потеснить Писание. В перевороте с ног на голову он не видел своей цели, задачу свою полагал он в расширении круга знания, где прошлое не опровергалось, а становилось частью более общего. Вот вам пример. Человеку не дано летать, и нам трудно узреть красоту и гармонию мира с высоты полёта орла. Представьте, что недалеко от вашего дома протекает чистый ручей, и с издавна все живут в убеждении малой гармонии этого мира. Некий ниспровергатель доходит до устья этого ручья, теряющегося в болоте, и делает вывод, что всё обман, а, напротив, мир ужасен, ибо конец его – гниение и тлен. Прозоровский же не из тех, кто отправится к истокам в дальние горы или к студёному морю, чтобы описать весь путь реки, доказав свою истину, отличную от первых двух. Он построит шар и наполнит его теплом, чтобы из-под облаков любой желающий смог сам обозреть все дали. Он отличается от вас, ищущих истин в ничтожных эпиграфах, он – истый делатель, пустых слов для него мало, он ищет очевидных доказательств в материальном, ибо иначе люди были бы бестелесными духами, а не грубыми телами с руками и зубами. Мрачный изгнанник – сначала думал я о неё, пока не понял, что он не выслан из столиц, а отыскал нечто здесь. Спросите, как я втёрся к нему? Я окончил курсы археологии и истории в Париже, посещал лекции египтологов в Риме, на которые собирался весь цвет тамошнего общества во главе с князем Гагариным. Ах, Юлия Самойлова – гениальная распутница, о таких мечтают все мужчины, и досталась она гению.
Да, я чувствовал его родство по желанию управлять материей. Но вскоре разочаровался в его пустоте чистого знания. Он использовал мощь конструкций и машин не для того, чтобы накормить людей, а только чтобы преумножить и без того бессмысленную груду нелепых сведений. Материальные предметы нужны ему для подкрепления основ новых идей. Но однажды уловил и для себя пользу в его открытиях. То, что искал я – иной путь – таилось где-то рядом!
Признаюсь, поначалу я плохо внимал ему, демонстрируя презрение тем, что ложился ничком, раз скрыться по-иному здесь не представлялось возможным. От побоев я не мог спать и с трудом ел, ибо даже движение челюстей доставляло страдание. Он не пытался меня привлечь ни громким голосом, ни попытками услужить. Всё же глаголы его развлекали меня от боли, поначалу простым струением слов родного языка, но мало-помалу рассказ его начал захватывать меня – по умению ли строить речь или по своему причудливому смыслу, который пуще любого вымысла был интересен своею правдивостью. События и люди, описываемые им, часто были знакомы мне, но, как занятно читать описание битвы глазами противных сторон, так и его колкий язык придавал остроты даже старинным анекдотам.
Били меня через день, и не по пяткам, как принято у турок, а по спине, вполне по-европейски. Регулярность и неизбежность экзекуций была хуже них самих, ибо, кажется, Беранже позаботился о том, чтобы мои мучения растянулись бы дольше. Неумение применять правильно чуждое наказание, турецкие охранники часто ошибались, доставляя мне неуклюжими ударами особенно острую боль. Всего пятнадцать ударов кряду – но раз от раза я слабел, и понимал, что тело недолго сможет противостоять медленному отъёму его жизненных сил, которые не имел я восстановить пищей или сном.
– Я помог пристроить Голуа по приказу Россетти, он – ещё нескольких, да так ловко и скрытно, что я уже под конец не знал, кто есть кто в доме князя, ибо умудрился он переманить к себе и некоторых старинных его слуг. Мы с Этьеном вроде как стояли на одной ступени, хотя каждый сразу возненавидел другого по гордыне. Но Прозоровский не верил им, кажется, вовсе. Однажды я подслушал, как Голуа попробовал только намекнуть Евграфу Карловичу на свой интерес, как на другой же день все почувствовали в его отношении то, что мы обычно именуем опалой. Мне же доверял он несколько более, и даже брал с собой на раскопки, впрочем, не часто. Голуа держался особняком и никогда не посвящал меня в дела своего кружка, я в отместку ничего не сообщал о находках, так что Россетти, узнай об этом, остался бы недоволен нами обоими. После того, как мы извлекли и установили кверху ногами валуны в английском парке, князь и вовсе отстранил меня от дел. Я, конечно, догадался о его страхе, видя, как он избегает этих начертаний, хотя часами мог простаивать возле разных отвратительных костей. Однажды я подслушал их разговор с Евграфом о найденной скрижали, и это круто изменило мою судьбу. Евграф у него навроде магистра, никогда не сомневается в суждениях и, по моему мнению, едва ли не единственный, сохранивший верность дому Прозоровских. Да, я не стесняюсь признаваться, что изрядную долю сведений приходилось собирать мне самым презренным способом. Испуганный шёпот позволял разобрать только, что он настаивал всё бросить обратно и вовсе затопить раскопанное, но князь отправился к Ведуну. Кто посмелее – ездят к нему погадать, а то и порасспросить о разном, о чём другие молчат. За деньги, конечно. А после вызвал Прозоровский меня в последний раз на раскоп, и под видом, что откопал только что, дал десяток с умыслом запачканных вещиц, меж которыми положил камень, сказав, что кабы свезти безделицы в Одессу, у Бларамберга дали бы за них немалую цену. Свезти в Одессу! Меж тем как старый хрыч своими ногами топтался у него на дворе, ожидая аудиенции, и князь не хотел с ним говорить. Боялся он этого камня, страшился его показывать, потому что тогда самому пришлось бы смотреть! Так он верил в его смертоносную силу. Ну, а я помчался к Ведуну, вместо денег сунул ему пистолет под нос и спросил, что он такого князю про камень наплёл. Услышал ответ – опасности необычайной, да только я, дурень, про надпись не поверил, думал сам булыжник причиной, а литеры нечто о нём сообщают. Завернул его, положил поукромней, нагнал Бларамберга, хотел сторговать ему княжьи раритеты, чтоб выручить денег до Берлина добраться, где мне всё про минерал и древнееврейскую надпись сказали бы. Да тот ни в какую – ценности, мол, неясного значения, требуется изучить, поезжайте в музей. Тут тем паче убедился я, что князь играл со мной. Да и пёс с ним. Он со мной, я со своими начальниками. Те и другие уже не могли доставить мне ничего, кроме помех.