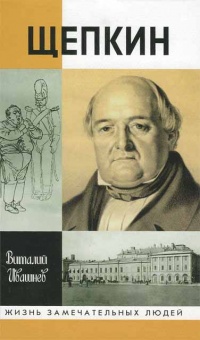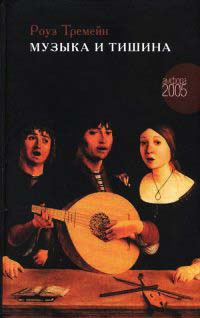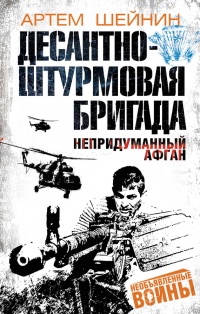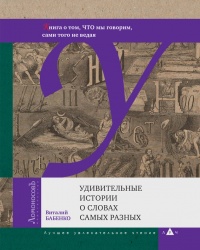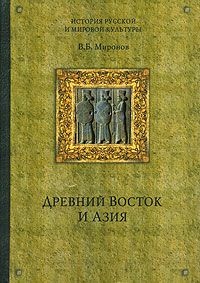Книга О Рихтере его словами - Валентина Чемберджи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Интересно, что спектакль идет очень долго – и не только в течение одного вечера; он вообще начинается в октябре, следующую часть показывают в ноябре, а последнюю – в декабре. Растянуто на три месяца. Но поставлен он как в старину, поэтому так замечательно. История кончилась тем, что церемониймейстера-злодея убили. Но и другие персонажи были наказаны за то, что не соблюдали дворцовый ритуал. Все сделали себе харакири.
Рихтер замечательно изображал, как японцы кричат и восторгаются, когда им что-то особенно нравится.
– Что в Японии больше всего имело успех на ваших концертах?
– Как будто все. Бешеный успех имел Равель, которого я играл с Олегом, Дебюсси – с Наташей, Бриттен и Шостакович – с Юрой. В Наканииде концерт проходил в Баховском холле, построенном прямо у рисового поля. Город кончается, начинается поле, и около него стоит концертный зал, потому что какой-то японец захотел, чтобы звучала хорошая музыка.
Неплохо прошел первый в той поездке сольный концерт в Мацумото – Гайдн, Шуман и Первая баллада Шопена.
Потом, после Японии, снова приехал в Хабаровск, – продолжал Рихтер. – Очень сильный ветер, лестницы со сбитыми ступеньками. Занимался в комнате художественного руководителя филармонии, в которой царил бешеный беспорядок.
– На обратном пути вы играли в Хабаровске один раз?
– Один.
– Хорошо прошел концерт?
– Хорошо.
– Какая была программа?
– Гайдн, Шуман, Брамс.
– А где состоялся концерт?
– В Концертном зале филармонии. Там большие недостатки: плохая акустика, зал плохо проветривается, страшно жарко.
Что меня поразило в Хабаровске – это Амур над домами, мой номер был очень высоко.
– А как было в Комсомольске-на-Амуре?
– Прекрасно! Там большой Дом культуры судостроителей. Сейчас скажу вам точно, как он называется. (Святослав Теофилович перелистывает одну из тетрадей.) Большой концертный зал Дворца культуры и техники завода судостроителей Ленинского комсомола. Я играл там g-moll'ную, В-dur'ную и Es-dur'ную сонаты Гайдна, а во втором – Шумана-Паганини и Брамса-Паганини. Мне в 70-х годах, когда я впервые приезжал сюда, понравился сам город, его дух, публика. Он какой-то весь складный. Во-первых, все дома одного роста, широкие улицы, напоминает Ленинград. Мы жили в маленьком домике, где хозяйничали приветливые старушки.
Но что меня удивило больше всего: все забыли фильм «Комсомольск» Герасимова! Хороший фильм. Не понимаю, как такое может быть.
Концерт в Комсомольске-на-Амуре прошел двадцать восьмого октября, а оттуда уже поехали в Новый Ургал, где я играл такую же программу… У меня впечатление, что там, как и в Чегдомыне и Тайшете, люди больше удовольствия получают от Гайдна… Когда Шуман начинается, это для них неизвестно что… Брамс – слишком много всего, они пугаются, слишком много нот…
Пятнадцатое ноября. Красноярск
С утра Святослав Теофилович был печален. Печально сидел в том же кресле.
– Все на меня навалились. Ну все, живые и мертвые…
Мне вспомнилась фраза из дневника Рихтера: «Почему, когда все хорошо, все равно печаль и угрызения совести? Это постоянная тема».
– Вы согласились играть в Большом зале пятнадцатого декабря?
– Нет – я ведь не успеваю. Я играл в нем больше трехсот раз. Хватит. Впрочем, может быть, я и сыграю… Я почему-то больше люблю зал Чайковского; наверное, потому что там я удачно играл в первый раз Концерт Чайковского и Пятый концерт Прокофьева. Играл с Прокофьевым, он дирижировал своим концертом… А потом зал Чайковского со сцены очень приятно выглядит. Очень как-то уютно. А Большой зал – нет; это громадный аквариум, – у-у-у-у-у. И это громадная галерка, амфитеатр… И потом я как-то разочаровался в Большом зале. Конечно, есть масса хорошей публики, но много снобов… Меня все время пилят с этим Большим залом. Чем больше пилят, тем меньше мне хочется играть там. В Большом зале я думаю: вот опять все пришли… что-то постылое есть во всем этом… И снобское. И вот они все думают, «перевернута уже страница»[48] или нет… Ойстрах совершенно так же говорил: «Они приходят на мой концерт и думают: ну что, он все еще хорошо играет? Когда же, наконец, это кончится?» Ну нет, я, конечно, так, фантазирую, но что-то в таком духе есть.
– Не знаю, я ничего подобного не чувствовала.
– Вы и не должны были чувствовать, вы же приходите музыку слушать, и вам никакого дела нет до всех этих людей. А я чувствую.
– В последний раз вы играли в Большом зале в день памяти Николая Рубинштейна: Полонез-фантазию и Первый этюд Шопена…
– Как раз тогда была настоящая консерваторская публика, хорошая… Но все же я с гораздо большим удовольствием буду играть в музыкальной школе в Звенигороде.
– Почему?
– Мне там нравится. У меня настроение есть там играть…
– Ну а в Музее?
– Там тоже есть такие люди. Но про них ясно, что они просто из другой оперы. Они приходят спать и потом уходят.
– Уходят?!
– Ну какие-то там официальные.
– Вообще вы довольны, что организовали этот фестиваль?
– Я устал, потому что они все время воюют. А на Туренском что делается… Там давно уже война, пятнадцать лет.
В тот день Святослав Теофилович снова не пошел заниматься и провел весь день в гостинице – был вялый, вздыхал, жаловался, говорил, что не хочет играть, не будет… Вспоминал про балеты и называл лучшими три: «Жизель» в Большом театре с Улановой (в постановке Петипа), «Волшебного мандарина» Бартока в Будапеште и «Турангалилу» Мессиана в Париже.
Приехали в Малый зал филармонии. Рихтер со вздохом сел на серый бархатный диван в артистической, пришел знакомый молодой человек, который переворачивал страницы в сентябре и учил Балладу Шопена (теперь, по его словам, он уже ее выучил и удачно сыграл). И ведущая была та же (Рембо!). Настроение царило праздничное – все готовились, ждали…
119-й концерт – в Красноярске – был полностью посвящен Брамсу.
Как в сентябре, переполненный Малый зал (вновь обратили на себя внимание причудливые светильники в потолке), вместо трех рядов стульев на сцене их уже шесть, исчезли проходы в зале – полно! В Красноярске одухотворенная, благодарная публика. Погасили огни. Рихтер быстро прошел к роялю (куда исчезли вялость, слабость? – словно их и не было вовсе) – в Красноярске великолепный «Стэйнвей», – и понеслись дивные созвучия.
В антракте Святослав Теофилович сказал, что зал похож не на «роскошный пломбир» или «сталактиты», как ему показалось в прошлый раз, а на «опрокинутый бар со стаканами на столиках». И хотя напевал что-то из «Мазепы» и разговаривал, но снова выглядел усталым. А потом стремительно пронесся по сцене, не дав никому опомниться, почти не дождавшись, пока погаснет свет, заиграл. Вариации Брамса сменяли друг друга, мощь и натиск, затаенность, ураган, совершенство. Зал взорвался аплодисментами, и сразу Вторая тетрадь: печаль, полет, воспоминания. Вот уж поистине не успеваешь пережить одно, как обдает дыхание следующего…