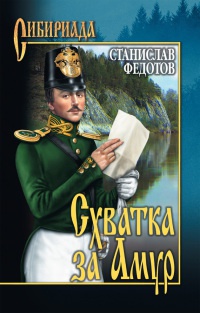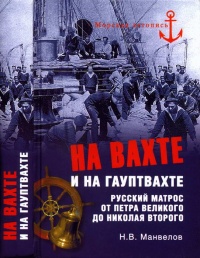Книга Возвращение Амура - Станислав Федотов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мадам, я рисовал всех красавиц Петербурга, и это были замечательные работы! Но ваш портрет, я уверен, будет le meilleur[22]! Ich übertreffe[23] самого себя, а это почти невозможно. Но… я говорю «почти» – значит, превзойду! Я вложу в него весь жар своего сердца, и он будет согревать вас в сибирской глуши. Вы – героическая женщина, мадам! Такая юная, изумительно прекрасная, вся столица могла бы лежать у ваших ног, а вы свою неповторимую красоту и молодость добровольно бросаете в каторжную Сибирь! Мало было России жен декабристов!
– Жен декабристов? – переспросила Екатерина Николаевна. – Кто такие декабристы? Что-то я слышала или читала…
– Да, вы же родились и выросли во Франции, там хватает своих мятежей и революций – что вам какой-то русский путч. Я, правда, тоже появился на свет в Эстляндии, в Ревеле, но Ревель – это Россия, и мы знали про мятеж в декабре 1825 года против императора Николая. Пятерых главарей мятежа казнили, а многих отправили на каторгу в Сибирь. Среди них есть даже князья. И несколько их жен поехали за ними и остались там, «во глубине сибирских руд», как написал великий поэт Пушкин…
Владимир Иванович говорил, одновременно бегло набрасывая карандашом на бумаге контур фигуры молодой женщины. Екатерина Николаевна краем глаза следила за ним и поражалась быстроте движений его руки.
– И что же с ними сталось? – вставила она, когда художник на несколько секунд замолчал, пытливо вглядываясь в ее лицо. Он мгновенно словно оторвался от действительности, погрузившись в себя, в лабиринт своих исканий, и на вопрос Екатерины Николаевны откликнулся рассеянно:
– Was? Etwas fragten Sie?[24] – и тут же спохватился: – О, простите, мадам, увлекся…
– Я спросила: что сталось с женами декабристов?
– Одни не выдержали тягот и умерли, а другие живут и даже рожают детей. Der Mensch anpasst sich! Человек приспосабливается!
Екатерина Николаевна вздохнула:
– Мне их жаль!
– У вас еще будет возможность пожалеть их там, в Сибири. – Гау тоже вздохнул. – И, в отличие от нас, кто тоже о них жалеет, но – только лишь на словах, вы можете чем-то им помочь на деле. Даст Бог, император смилостивится и вернет их в лоно культуры, но пока что всеми средствами должно облегчить им жалкое существование. Они давно уже поняли всю бессмысленную пагубность своей затеи и давно искупили вину.
– Вы так думаете? – усомнилась Екатерина Николаевна.
– Мадам! Двадцать два года каторги убедят кого угодно и в чем угодно. Это же образованнейшие люди! Цвет русской нации!
– Пожалуй, вы меня тоже убедили. Я постараюсь для них что-нибудь сделать. Если это будет в моих силах.
– Это – в силах генерал-губернатора! Он там высшая власть, разумеется, после императора, – горячо сказал Владимир Иванович и вдруг лукаво улыбнулся: – Но его власть, без сомнения, подчинена власти вашей красоты, вашего очарования.
Екатерина Николаевна польщенно засмеялась:
– Не стану спорить, но этой властью злоупотреблять нельзя.
– Помилуй Бог, разве творить добро значит злоупотреблять?
В дверь из-за портьеры заглянул слуга:
– Владимир Иваныч, к вам давешний господин Муравьев.
Не дав художнику времени на ответ, в мастерскую быстрым шагом вошел Николай Николаевич, даже не снявший шинель:
– Простите, что прерываю сеанс…
– А мы на сегодня уже закончили, – Гау быстро развернул мольберт, не давая приглядеться к рисунку: видимо, не любил показывать незаконченные работы. – Продолжим завтра в то же время.
– Отлично! – сказал Муравьев. – Катенька, приехал из Риги Евгений Александрович, и мы сегодня обедаем у Головиных.
Уже усевшись в санки и пряча ноги в сапожках под медвежью полость, Екатерина Николаевна неожиданно спросила мужа:
– Николя, как ты относишься к декабристам?
– К декабристам?! – Николай Николаевич так и застыл с поднятой ногой: вопрос застал его врасплох, он даже не успел сесть в санки. Однако сразу вслед за тем занял свое место рядом с женой, тщательно укрылся полстью, тронул за локоть извозчика: «Давай, братец, на Васильевский» – и только после этого повернулся к Екатерине Николаевне. – Декабристы, моя милая, преступники, и я к ним отношусь, как законопослушный гражданин должен относиться к преступившим закон. Хотя среди них было много моих родственников, и кто-то успел умереть в сибирской каторге и ссылке, а кто-то был прощен и продолжил службу государю и Отечеству. Как, например, Михаил Николаевич, в гостях у которого мы с тобой обвенчались. А почему ты спросила?
– Я подумала: мы едем в Сибирь и можем там с ними повстречаться…
– Ну, вот повстречаемся, тогда и решим, как к ним относиться.
– А как решилось с Невельским?
Муравьев удивился не меньше, чем вопросу о декабристах:
– Ты начала интересоваться моими делами?
– А что ты удивляешься? Помнишь, Елена Павловна сказала, что от меня будет многое зависеть?
– Помню, – Муравьев внимательно взглянул в ее глаза и, отогнув край перчатки, поцеловал руку жены. – С Невельским все в порядке. Он назначен командиром транспорта «Байкал», сейчас занимается его достройкой в Гельсингфорсе и ближе к осени отправится в Камчатку. А тебе нравится позировать художнику?
– Да, очень… Владимир Иванович сказал, что мой портрет будет лучшей его работой.
4
Через неделю портрет был закончен, но это не принесло Муравьеву радости. Накануне он узнал цену, и она его ошеломила, поскольку таких денег в наличии уже не было: запасов у него никогда не водилось, а так называемые подъемные, выданные министерством, разбежались по житейским мелочам. Самой дорогой покупкой стали две связки книг о Сибири, отобранные Муравьевым в книжной лавке. Они-то и явились тем перерасходом, который не позволял теперь выкупить у художника готовый портрет. Занимать в долг Муравьев не любил, да и не было у него в Петербурге доверенных кредиторов. Поэтому, ничего не сказав Екатерине Николаевне, он отправился к художнику, чтобы уговорить его убрать портрет в запасник до первого же своего приезда из Сибири.
В мастерской Гау он встретил человека, которого менее всего желал видеть – генерал-майора князя Александра Барятинского, личного друга цесаревича Александра Николаевича и своего давнего неприятеля. История их отношений, яростно-враждебных со стороны Барятинского и стойко-неприязненных со стороны Муравьева, началась во время подавления Польского восстания, летом 1831 года, в местечке Бялы.
Поручик Муравьев тогда только что выполнил сложнейшее задание командира 26‑й дивизии генерал-лейтенанта Головина, адъютантом которого служил с середины мая. Дивизия, имевшая пять с половиной тысяч человек пехоты, тысячу триста – кавалерии и четырнадцать орудий, противостояла втрое превосходящим силам мятежного генерала Хржановского, но Головин, умело маневрируя между местечками Мендзыжец, Седльце и Миньск, прикрывая фронт более чем на сто верст, создал у поляков впечатление о гораздо большем количестве русских войск, нежели это было на самом деле. Своими действиями он оттянул значительные польские силы от Варшавы, что позволило русской армии под командованием графа Паскевича-Эриваньского форсировать Вислу у городка Осека, севернее столицы Царства Польского. Но Головину хотелось большего, и он задумал дерзость.