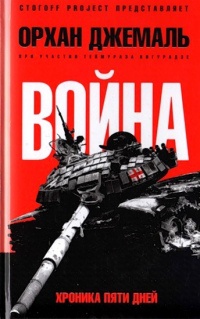Книга В последнюю очередь - Анатолий Степанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
― Вы просили только выводы, дорогой Александр Иванович, ― не сдерживаясь, съязвила Лидия Сергеевна.
― Но все-таки? ― смиренно настоял Александр.
― Человек перевернул труп ногой. Естественно, что центр тяжести его тела переместился на носок левой опорной ― в это мгновение ― ноги. И, как следствие, отпечаток оказался с углублением носовой части стопы.
― Ясненько.
― Отпечаток сделан калошей на обувь сорок третьего размера и принадлежит человеку весом семьдесятсемьдесят пять килограммов и ростом метр семьдесят пять ― метр восемьдесят. У меня все.
Москвичка, интеллигентка хренова, не может галошу назвать галошей. Как же, обязательно ― калоши. Александр почесал нос:
― Не богато.
― Чем богаты, тем и рады. ― Элегантная Лидия Сергеевна, закончив служебные дела, позволила себе мягко, с оттенком неподчеркнутого превосходства, улыбнуться.
― У вас чудесные духи, чудесные! ― восхищенно воскликнул Роман. ― Уж на что я знаток, и то определить не могу, какие.
― "Коти" ― вдруг засмущалась непоколебимая Лидия Сергеевна. ― Мне брат из Парижа привез.
― Да, брат на Монмартре развлекается, ― поразмышлял Роман Казарян, а вы в Марьиной Роще, на хазе с уголовниками веселитесь.
― Каждому свое, Ромочка.
Роман Казарян, армянин московского разлива, любил Москву, и Москва любила его. Отец Романа, тифлисский армянин, уникальный знаток античной литературы, преподавал в МГУ, в ГИТИСе, в Литературном институте. Влюбленный в древних греков до такой степени, что во время его лекций студенты, попавшие под гипноз его темперамента, вопреки рассудку, считали его очевидцем всех исторических катаклизмов Эллады, он воспитывал сына в стоических традициях Спарты.
Пока дело касалось физических упражнений, Роман не сопротивлялся. Закаленный с детства, он хорошо начал в боксе. На ринге они и познакомились с Аликом, два первенства бились жестоко, с переменным успехом. Алик ушел из среднего в полутяж, делить стало нечего, и они подружились.
Но когда отец стал посвящать сына в прочие особенности античной жизни, желая сделать его своим преемником, вольнолюбивая натура Романа, более приспособленная к реалиям сегодняшнего дня, бешено взбунтовалась.
Он ушел на улицу. Обаятельный, легкий, быстро сходящийся с людьми, Роман стал известной личностью в пределах Садового кольца. Он был вездесущ. Он ладил с приблатненными из "Эрмитажа", дружил с футболистами из московского "Динамо", поражал начитанностью и истинно московской речью простодушных актеров. Он стал завсегдатаем танцевального зала при ресторане "Спорт" на Ленинградском шоссе, постоянным посетителем ипподрома, поигрывал в бильярд, его обожал весь ― поголовно ― женский джаз из "Астории". Казалось, его знали все. От шорника до Шверника, как он любил говорить.
На третьем курсе юрфака он малость приутих. Сдал наконец хвосты, обаял преподавателей и без труда закончил курс наук. К удивлению всех разномастных знакомцев, он пошел работать в МУР, под начало к Александру Смирнову, с которым сдружился на государственных экзаменах. С течением времени его самодовольная уверенность, что он досконально знает Москву, рассеялась как дым. Москва была слоеным пирогом, и слои эти невозможно было пересчитать. Люди, общаясь в своем горизонтальном слое, наивно полагали, что они осведомлены о московской жизни в достаточной степени. Но в достаточной степени они были осведомлены только о жизни своего слоя. Проникший до МУРа в десяток слоев, Казарян нацелился теперь идти вглубь их, по вертикали. Он любил Москву, он хотел ее знать.
Васин до ареста жил в Тишинском переулке, недалеко от Белорусского вокзала. Роковое это соседство ― рынок и вокзал ― в годы войны, в скудные послевоенные годы своей готовностью достать и продать все, рождало в слабых душах алчность, страсть к скорой наживе. Обманом купить подешевле, просто выманить, взять незаметно, украсть.
Васин жил в одном из домов, построенных в конце двадцатых годов в стиле нищенского конструктивизма. Захламленный двор, занюханный подъезд, зашарпанная лестница. На третьем этаже, оглядевшись, Роман обнаружил квартиру номер двадцать три. Следуя указаниям, изложенным на грязной картонке, дважды позвонил. Дверь открыл маленький корявый мужичонка в ватнике и ушанке. Оценив экипировку хозяина, Казарян вежливо осведомился:
― А что, в квартире очень холодно?
― Нет, ― удивился мужичонка.
― Гора с плеч. Тогда зовите в гости, Васин.
― А я уходить собрался, ― негостеприимно возразил тот.
― Поход ваш придется отложить. Я из МУРа. Оперуполномоченный Казарян. Вот мое удостоверение. ― Роман был жесток, точен, сугубо официален. Пугал для начала. С шелчком захлопнул удостоверение, предложил безапелляционно: ― Пройдемте в ваши апартаменты.
В убого обставленной комнате Роман снял кепку, сел без приглашения на продавленный диван. Васин обреченно стащил с головы ушанку и примостился на венском стуле.
― Давно в Москву прибыли? ― задал первый вопрос Казарян.
― Вчерась.
― Что ж так задержались?
― Попробуй на поезд сесть. Уголовниками все было забито.
Такого Роман простить не мог. Спросил насмешливо:
― А вы не уголовник?
― Я дурак.
Непрост, непрост был корявый мужичок Васин.
― Ну, вам виднее. С однодельцами еще не встречались?
― А зачем?
― По старой, так сказать, дружбе. По общности интересов. По желанию получить часть того, что находится в пяти ненайденных контейнерах. Нами не найденных.
― Глаза бы мои до самой смерти их всех не видели.
― До вашей смерти или их?
― До моей, до моей! ― закричал Васин.
― Перековались, стало быть, на далеком Севере. Что ж, похвально. Тогда, как на духу, а они вами не интересовались?
Васин расстегнул телогрейку, потер ладонями портки на коленях, вздохнул. Решался ― говорить или не говорить. Решился сказать:
― Нинка моя говорила, что дня четыре как тому Виталька забегал: справлялся, не приехал ли я.
― Виталька ― это Виталий Горохов, который вместе с вами проходил по делу?
― Он самый.
― Еще что можете мне сообщить?
― Все сказал, больше нечего. Мне бы, товарищ Казарян, от всего бы от этого отряхнуться поскорей, как от пьяного сна...
Ишь ты, и фамилию запомнил. Не прост, не прост досрочно освобожденный по амнистии Васин Сергей Иосифович. Роман встал, сказал брезгливо: