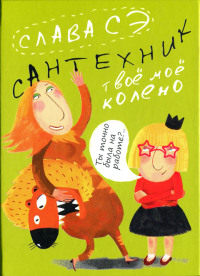Книга Арена XX - Леонид Гиршович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вопреки собственному же мнению, что в ключевые моменты истории порядочные люди сидят дома, колченогий костюмер, не попадая в рукав пальтеца, поспешил под пули. Он передвигался без палки, довольно быстро, в первый момент могло показаться, что правом хождения по тротуару у него пользуется только одна нога. Стреляли совсем близко – у Сенного рынка. То-то татарове попрятались. Жалеют о белом царе, да поздно спохватились.
У цирка дядю Ваню что-то толкнуло, он упал… «Это было последнее, что он почувствовал» – нет, не так. Проехавшая тачанка едва его коснулась. Хотя могла сбить насмерть. Колесница арьергардных боев унеслась дальше, она, по идее, победоносно бьет из пулемета по своим преследователям. Или просто по своим? Другое применение обращенному вспять орудию трудно себе представить. (А когда-то по Проломной ходила конка.)
В случае истерики пощечина благотворна. Так и это. Придя в себя после испуга и отдышавшись, он первым делом удостоверился, что волшебный башмак, где вызревают троянцы, целехонек. Без него он как без рук. (Без ног?) И удостоверившись, что цел, со вздохом облегчения повернул обратно.
Но в лабиринте, куда он попал, невозможно вернуться на прежнее место. Прежнего места более не существовало. Угловая кеглеобразная башенка ярко освещена изнутри. В соседних окнах тоже постепенно загорался свет. В вырвавшихся наружу огненных столпах черными мотыльками кружились саламандры.
Оперные театры хорошо горят. Реестр сгоревших опер поистине велик, от украшавших, подобно драгоценностям, столицы мира до никому неведомых провинциальных козявок. Иные, будучи восстановлены, сгорали дважды. При этом опера обладает свойством сгорать дотла. «В огне и пламени», как раскольники в «Хованщине», гибнут и нежно-розовые языческие божества на плафонах, и стайки гипсовых купидонов «греза педофила», и плюш кресел, которого касались по-каренински полные руки, и атласные ложи, хранившие тайны пострашней масонских, и кровавый навет занавеса – все-все-все обращается в пепел.
Конечно, опера в Казани – это не барселонская, не дрезденская и не парижская, это не «Фениче» и не «Сан-Карло» (горели соответственно в 1994-м, 1869-м, 1763-м, 1996-м и 1816-м гг.). И потолок в казанской опере расписывали не Бенуа, Тьеполо или Шагал – всего лишь какой-то там ученик Васнецова с немецкой фамилией. С началом войны на волне всеобщего воодушевления ухватились за идею создания патриотической росписи по мотивам опер Римского-Корсакова – взамен прежних оперных рыцарей в доспехах германского образца, того же происхождения лебедей и златоволосых дев. Берендеям и Садкам предстояло дать отпор вагнеровским Лоэнгринам и Зигфридам.
В здешнем хоре пел когда-то Феодор Иоаннович, будущий государь русской оперной сцены. Вообще-то Шаляпин пел в Богоявленском соборе, но случалось подрабатывать и здесь – за медный грошик, именуемый по-гречески «халкос». Потому у церковных певчих подрабатывать в опере называлось «халтурой». Нет, сгоревшую казанскую оперу тоже было кому вспоминать из великих. В разное время там пели Фигнер, Андреева-Дельмас, Собинов. Нет-нет…
Причем от неожиданной мысли, что сынишка может в любой момент явиться домой голодный, он «спешил, как на пожар». Не опоздал к началу, все видел, от первой радостной светозарности за окнами до кошачьих язычков пламени, затоптанных предрассветным дождем. Так проводят ночь с умирающим, который под утро испустит дух. Коралловые внутренности театра шевелились подобно человеческим, – театра, где он состоял столько лет в должности почти что интимной: смотрителя туалетов.
Помещение было обитаемым, немного человеческого изюма в нем запеклось. Первая и величайшая мысль: оба, и отец и сын могли оказаться внутри, но явился ангел и вывел их – как из огнедышащего града.
– Господи, Царю небесный… – мелко шептали его губы, вроде бы дрожали. – Не попустил, Господи… Охранил рукою сильною… Иисусе Спасителю…
На улицу выбегали люди, голые-босые, обгоревшие. Кому-то путь к спасению был отрезан, кто-то с пеньем простирал руки из окна:
Окрест братья во пламени,
А в дыму и в огне души носятся.
Всего сильней пламя бушевало там, где ютились обездоленные служители муз. Легко было поставить себя на их место. Ликуя: «Рука Всевышнего отечество спасла…». Не отводя глаз, не зажимая ушей, испил он всю чашу, благо на донышке оставался сахар ликования: «Рука Всевышнего отечество спасла…». И снова, с чувством: «Рука Всевышнего отечество спасла…». Сахар.
Отечество спасти не удалось. Однако пламя не перекинулось на соседние дома, не полетело красным петухом клевать кровли, грозя самим граненым башням кремля, как оно неоднократно бывало, – и чуду этому город обязан руке Всевышнего. И не ей одной, а жилистой руке татарского бога Аллаха тоже: театр вдвойне огнеопасен с тех пор, как сделался жилым помещением.
Великое утешение – когда другим хуже. Не просто хуже, а хуже некуда. Превосходная степень познается в сравнении: дядя Ваня ощущал себя счастливцем, глядя на погорельцев, гораздо его несчастнейших. А иных и вовсе недосчитались: Эчильдея, по ком воем выли дворничиха с дворничатами, – убитого огненной балкой и замертво сгоревшего, когда кинулся обратно во пламень, спасать из дворницкой свое добро; заживо сгоревшего художника Комарова, их соседа, которого Николаша объявил немецким шпионом: «Он рундук отравляет, после зайти нельзя, и усы, как у Вильгельма». Содержимое рундука попадало в Булак, Булак соединяет Казанку с Кабаном, Кабан зацвел. (Сашка верил.)
С десяток человек безумно и алчно разгребали золу, размазывая ее по щекам, как слезы. Уподобляться черту чумазому дяде Ване не было нужды. Если у кого-то был тайник с сотней свернутых в цигарку изображений ангальт-цербстской дамы или висела под простыней чуть побитая молью кунья шуба, или сохранились другие сокровища, то дяде Ване достались от тестя, героя туркестанской кампании, лишь часы на цепочке. Их он всегда носил с собой, хоть и с опаской: «новокрещеное место Казань» – третье по числу мазуриков. Можно сказать, третья столица преступного мира: не то что без часов останешься – в благодарность еще получишь перо в бок. Но дядя Ваня по старой памяти уповал на покалеченье: кто обидит убогого?
В огне ему нечего было терять: солью не запасался, собственностью на средства производства не владел – арендовал у добрых людей зингеровскую машинку, когда случалась работа. Что без документов остался – кто обидит убогого? Уже было такое, что на Хлебной их обчистили. И паспорт, и Николашину метрическую выпись – все украли, собаки. В губпродкоме, где артисты состояли на довольствии, ему написали: товарищ такой-то швей театра. Увидеть свою фамилию без твердого знака было как ощутить свежесть по выходе из тифозного барака остриженному наголо.
Дядя Ваня тоже был фантазийный, но по старинке: измышляя невесть какие фортеции, не подряжал в строители других. И чертежи своих воздушных замков хранил в тайне. Ему достаточно морочить самого себя, чтоб феи слетались. Из курса истории он знает, что смутные времена растягивались на годы, но непременно одна сторона брала верх над другой и жизнь возвращалась в привычную колею. Хозяева «Londres» в нетех. А у него имя: дядя Ваня. Откроет ателье мод на Воскресенской, рядом с пассажем, например, на месте немецкой булочной. Как ее тогда – ломами! При городовых. И думать не думал иметь здесь свой гешефт. Где висел золотой крендель, будет висеть огромный наперсток. С колокол. Внутри язык, от языка веревка протянута к двери. Входящего встречает благовест.