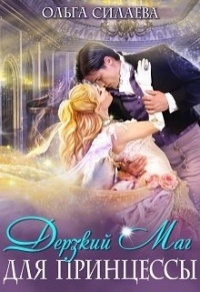Книга Падение Софии - Елена Хаецкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Так это… — сказал вдруг Сократыч. — А что человека на смерть из-за холщовых мешков…
Я остановился.
— Что ты имеешь в виду?
Он зашлепал губами, как будто ему трудно было подобрать слова. Наконец он вымолвил:
— За мешки, выходит, по-вашему, — на лютую казнь?
— О чем ты вообще говоришь, Сократыч? — рассердился я. — Сам ведь напоминал мне: мы на их земле и в их обычае! А у них, согласно их же законам, один ответ за любой проступок: эти самые колючки. Так чем ты теперь недоволен?
— Их же обычай — брать чужое как свое, — сказал Сократыч. — Они не знали. И про жуков — тоже… Сдались они тебе! Сходил бы я тебе за жуками, барин. А ты сразу вот так, с дубьем на живую душу…
— Нет уж, — сказал я. — Ты, Сократыч, совсем распустился. Что себе позволяешь? Ты ведь жука от паука не отличишь, потому что до восьми считать не умеешь. Где тебе отобрать нужные виды для энтомологической коллекции!
— Да я их припомню, — сказал Сократыч. — Я на них долго смотрел. Они у меня в голове все отпечатались, как на картинке.
— Молчать! — рявкнул я, весь покрываясь испариной. Было жарко, а Сократыч положительно меня злил. — Молчать, глупый ты человек. Нам представится возможность наблюдать своими глазами один из самых диких и древних обрядов, какие только еще сохранились во вселенной.
— Так человек же через все это помрет, — угрюмо бубнил Сократыч.
— Кто — „человек“? — Я разошелся не на шутку и сам на себя был сердит. Для чего, спрашивается, спорить с мужиком? — Кого ты называешь „человеком“?
Сократыч не ответил, опустил свою косматую голову.
— „Яшу“? — продолжал я. — Его, да? Так ведь еще даже окончательно установлено, что фольды истинно могут считаться разумными. Их поведение, отчасти похожее на человеческое, вовсе не является бесспорным доказательством. В Древнем Египте, да будет тебе известно, крестьяне использовали прирученных обезьян, чтобы те собирали для них фиги с пальм. И обезьяны работали не хуже людей, кстати.
— Они разумные, — гнул свое Сократыч. — Фольды-то. Кой в чем поразумней нас с вами будут.
— Не доказано! — оборвал я. — Не доказано, и точка. И этой проблемой, друг Сократыч, заниматься будут ученые, а не глупые мужики. Я же обязан все записать, зарисовать и сделать надлежащие предварительные выводы.
Сократыч поплелся дальше, время от времени гулко кашляя в кулак, а я, кипя негодованием за его дерзость, зашагал следом.
Вы спросите меня, не слишком ли, в самом деле, бесчеловечно было подвергать „Яшу“ такой лютой казни за ничтожнейшую провинность? Я Вам так отвечу, если Ваши сомнения еще не развеялись. Известно, что некоторые виды обезьян чрезвычайно жестоко расправляются со своими сородичами. Биологи, ведущие многолетние наблюдения за животными, никогда не вмешиваются в такие расправы, а вместо того все снимают на пленку, записывают и документируют. Для чего? Для того, что это важные данные о жизни обезьяньего сообщества. Они обладают прежде всего научной ценностью. Понятие же о „нравственности“ в данном случае неприменимо.
Полагаю, нечто подобное мы можем прилагать и к сообществу дикарей, когда мы впервые сталкиваемся с ним и приступаем к первичным наблюдениям. Впоследствии можно будет уже решать, насколько изученные дикари поддаются цивилизации и насколько вообще уместны затраты средств на то, чтобы привить этим неразвитым существам принципы добра и братского отношения.
Однако возвращаюсь к моим заметкам. Утром назначенного дня „Яша“ был выведен в пустыню за пределы поселения и там буквально пришпилен к земле. Конечности его были связаны ремнем и прикреплены к двум большим столбам, вбитым в песок на два локтя в глубину.
Я, Сократыч (в качестве переводчика) и двое из аборигенов устроились поблизости, чтобы иметь возможность следить за происходящим. Для меня натянули тент, чтобы я имел хотя бы малейшее укрытие от палящего солнца. Сократыч, разумеется, устроился рядом. Что до аборигенов, то они попросту уселись на корточки, положив себе на затылок руки со сплетенными пальцами и создав, таким образом, род козырька для защиты глаз.
„Яша“ лежал прямо под солнцем в ожидании, пока прикатится колючий шар и довершит казнь. Но колючки, как нарочно, избегали этого места. Миновал томительно-скучный день. Наконец, когда солнце зашло за горизонт, аборигены поднялись, приблизились к „Яше“, отвязали его и что-то выкрикнули громкими голосами, хлопая его при том по ушам ладонями. Я повернулся к Сократычу за разъяснениями.
Сократыч громко произнес несколько слов на местном языке. Аборигены замерли, потом, посовещавшись между собой, ответили ему.
— Говорят, все, казнь кончена, — доложил мне Сократыч.
— Как же кончена, когда ни одна колючка не попала? — удивился я.
Сократыч аж потемнел лицом:
— Да вы просто зверь, хоть профессор и все такое! Как можно говорить похожие вещи! Что ж, вам непременно хотелось видеть, как человек помрет?
— Опять ты за свое, Сократыч: „человек“, „человек“… — Я поморщился. — Нет, я не такой кровожадный, как ты воображаешь. Для мужика ты слишком сентиментален, однако. — (Кстати, я давно заметил, что низшие классы склонны к сентиментальности. Полагаю, это от особого сорта „литературы“, которой их пичкают в школах, где они обучаются грамоте.) — Просто интересно было бы наблюдать процесс.
Сократыч собрал тент и мой складной стул и нагрузил их себе на шею, обвязав веревкой. В молчании мы возвратились в лагерь, где я имел продолжительный разговор с моим заместителем, старшим лаборантом Хмыриным, который исходил пеной ярости по двум причинам: во-первых, непременно желал он, чтобы ужин был приготовлен с участием мясных консервантов, а не только крупчатки, а во-вторых, считал необходимостью организовать повторную экспедицию за жуками, в которую сам, впрочем, идти наотрез отказывался.
Хмырин представляет собой тип сотрудника, вечно преисполненного желчью, что проистекает от постоянных подозрений насчет неудач карьерного роста, говоря попросту — хронической зависти по отношению к коллегам…»
На драматическом описании Хмырина мой покой был нарушен неожиданным вторжением.
Сначала я увидел босые ноги, до крайности волосатые, с широкой, как бы раздавленной ступней. Затем — угловатые колени и выше них — мужскую белую рубаху. Существо переступало с ноги на ногу, дергало руками и кривилось, а затем, встретив мой взгляд, затихло, сжалось и застыло в неподвижности, как делают при встрече с опасностью дикие животные.
Менее всего я рассчитывал встретить в моей «ситцевой гостиной» фольда. До сих пор Витольд целиком и полностью справлялся со своей обязанностью и следил за тем, чтобы инопланетянин не вторгался в мое уединение и вообще никак не давал о себе знать.
Я отпустил тетрадь на колени и строго воззрился на вторженца.
Фольд больше не выглядел больным. По крайней мере, теперь он не трясся, не был покрыт испариной и так далее. Я кивнул ему. Полагаю, общение со Свинчаткиным научило фольда тому, что у земных людей кивок означает дружеское приветствие или, по крайней мере, легкую степень одобрения. Фольд сразу замотал головой, осклабился и принялся особым образом водить плечами.