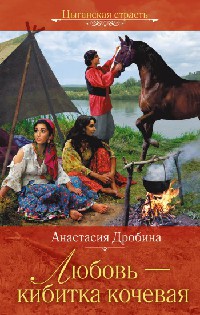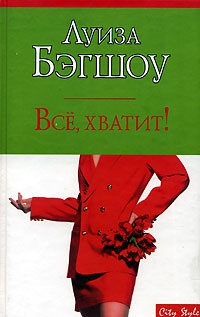Книга Ближний берег Нила, или Воспитание чувств - Дмитрий Вересов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нил проворно вскочил, в несколько широких, чуть ли не беговых шагов достиг столба, у которого она оставила вещи, взвалил на плечо рюкзак, поднял гитару.
Она вышла из-под навеса и ждала его. Он поднялся на крыльцо дома и позвал:
— Прошу сюда!
Они оказались в тесных сенях, где едва хватало места для печки и деревянной лестницы, упирающейся в деревянный же чердачный люк.
— Девчонки направо! — сказал он и толкнул дверь плечом.
Она остановилась на пороге, вдохнула трепетными ноздрями, сморщила прямой, самую малость крючковатый носик.
— Слушай, а другого помещения нет? Нил озадаченно посмотрел на нее, потом перевел взгляд внутрь комнаты. Дощатые нары в два яруса, плотно забитые пыльными тюфяками. Под ними рядком стоят сапоги с неосыпавшейся грязью, а неровный пол покрывает грязь осыпавшаяся, вперемешку с шелухой от семечек и конфетными фантиками. Через всю комнату протянута веревка, с нее свисают разноцветные маечки, трусики, бюстгальтеры. Пахнет затхлой кислятиной и немытыми подмышками.
— У мужиков, конечно, почище и попросторней, — задумчиво протянул Нил. — Но у мужиков. Она улыбнулась, показав ровные белые зубы.
— Не правильно поймут, да? Он тоже улыбнулся.
— У Нинки своя каморка, над кухней. Но там тесно, вдвоем не развернешься.
Мы ее комнатенку между собой так и зовем — Нинкина щель.
Девушка звонко рассмеялась. Вслед за ней и Нил.
— Еще есть чердак, конечно. Только там холодно…
— У меня спальник.
— И света нет.
— У меня фонарик. И свечки.
— Тогда полезли? — Полезли.
Он держал фонарик и одновременно надувал резиновый матрас, пока она натаскивала душистого сухого сена в выбранный уголок, приспосабливала доску у будущего изголовья, устанавливала на ней извлеченную из рюкзака свечку. Потом она расстелила на матрасе синий спальный мешок с толстой нейлоновой молнией и тут же плюхнулась на него, закинув руки за голову.
— Кайф! А ты говоришь — девчонки направо… Пиво будешь?
— А есть?
— У меня нет, я на твое виды имею. — Увидев его замешательство, она рассмеялась:
— Да есть, конечно, сейчас достану. Куришь?
— Ага.
Она извлекла из рюкзака две бутылки пива, одну бросила ему, потом достала блок сигарет.
— Ух ты, «БТ»! — с восхищением заметил он.
— А то! Спички есть?
— Есть. А вот открывашки для пива нет.
— Давай сюда.
Она поднесла бутылку к бутылке, так что крышки соприкоснулись нижними, зубчатыми краями, примерилась, рванула. Обе крышки слетели одновременно.
— Учись, студент! — Девушка протянула ему бутылку. — Будь здоров! Имя у тебя интересное, напомни.
— Нил, — сказал он, прихлебнул теплого свежего пива. — Нил Баренцев.
— Красиво. А я Линда. Линда Маккартни.
— Иди ты!
— А что, не похожа? Говорят, похожа… В неровном свете свечи он вгляделся в ее удлиненное, несколько аскетическое лицо с большими светлыми глазами и чувственным алым ртом. А ведь и в самом деле…
— Похожа, только симпатичнее. В той Линде есть что-то лошадиное.
— Ну, мерси… Вообще-то по паспорту я Ильинская Ольга Владимировна, только мне это не нравится.
— Отчего же? Отличное имя.
— Совсем как та шибко правильная девушка, которая Обломова спасала. А я девушка не правильная и никаких Обломовых спасать не желаю.
— А что желаешь?
— Закурить желаю… Да ты что стоишь, кидайся рядом…
Они курили, болтали, жевали ее бутерброды с копченой колбасой. Нил глядел на нее и думал, что и здесь, в Житкове, оказывается, может быть совсем неплохо.
Даже хорошо.
— А мою маму тоже Ольгой Владимировной зовут, — неожиданно сказал он. — Ольга Баренцева, оперная певица.
— Не знаю. Мне вся эта опера по фигу. Я «Битлов» слушаю, рок всякий.
— Играешь? — Он подбородком показал на зачехленную гитару.
— Так, бренчу. А ты?
— Можно?
Он подтащил к себе гитару, расстегнул чехол. Гитара была плохонькая, кустарно переделанная из семиструнки. Он проверил звук, подкрутил колки.
— La-la-la-la-ld-la lovely Linda With a lovely flower in her hair… — это про тебя, между прочим.
— Про нее. Но закроешь глаза — никакой разницы… Как будто сам Поль поет.
— А откроешь — всего-навсего Нил.
— Не прибедняйся… Лучше еще сыграй, ты здорово умеешь.
— Учился, — скромно сказал Нил и ударил по струнам:
Let's all get up and dance to the song
That was the hit before your mother was born,
And though she was born a long-long time ago…
Your mother should know, a-ha,
— Your mother should know, — подхватила она.
Голос у нее был очень высокий, звонкий, красивый, но совсем не поставленный. И со слухом не все в порядке. Ну и что? Давно задолбало его правильное пение. Мелани, самая знаменитая хиповская певица, из четырех нот в три не попадает…
— Sing it again…
Когда он закончил, она быстренько наклонилась к нему и чмокнула в щеку.
— Нил, ты гений! Спиши мне аккорды. С появлением Линды тонус жизни в отряде изменился не только для Нила. Когда они спустились под столово-кухонный навес и Нил взгромоздил на плиту отрядный чайник, чтобы испить с Линдой растворимого кофе, тоже привезенного ею, рядом никого не было. Но стоило Нилу вновь взять гитару в руки, откуда ни возьмись явился Юра Стефанюк, уселся на другой край лавочки со скучающим видом.
— Something in the way she moves Attracts me like no other lover…
Линда подпевала, а Стефанюк в такт постукивал ногой о земляной пол. Когда же гитара смолкла, он неожиданно сказал:
— Это с битловского «Рубероида» вещица. Я этот диск у Толяна на Галере за пять-ноль брал.
— А я по три-ноль сдавала. Может, тот же самый. Ну Толян, гад, хорошо наварился.
— Толяна знаешь? — оживился Стефанюк.
— А кто ж его не знает? Он одной герле знакомой джины самопальные за «Леви-Страус» впарил. Она меня потом подписала ему претензию предъявить.
— Ну и?..
— По коктейлю в «Лукоморье» жахнули и разошлись довольные друг другом.
— А герла?
— А что герла? Товар берешь — глаза на месте держать надо… А как он весною на гринах чуть не попух, слыхал? Его комсомольцы с хорошей суммой в гостинице прихватили, в опорный пункт привели, так он там, пока спецы с Литейного ехали валютную статью оформлять, главного комсомольца на выпить расколол, сотенную бумажку долларов со стола тихонечко подобрал да под коньячок и схавал. Комитетчики приехали, а им предъявляют финскую монетку в пять марок и две бумажки по доллару. Смехота! Ну, сообразили, конечно, в чем дело, откоммуниздили Толяна от души, да и отпустили. А что делать?