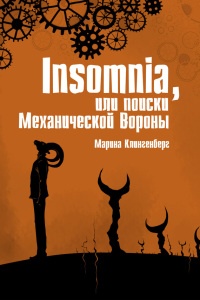Книга Пока мы можем говорить - Марина Козлова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И подмигнул Шань.
* * *
Мицке смотрела на несчастную Солю и думала, что внезапные «окаменения», когда человек вдруг перестает слышать и смотрит внутрь себя, – это, наверное, как защитная реакция организма: мол, меня нет, а значит, и того, что со мной происходит, тоже нет. Когда умер дедушка, самый верный ее друг и защитник, которого она, тогда еще второклассница Таня Малькова, любила больше всех на свете (больше мамахена так уж точно!), самым тяжелым было следующее утро. Ведь когда человек просыпается, воспоминания о вчерашнем дне «включаются» в голове не все сразу, а постепенно, как появляются одна за другой иконки рабочего стола при запуске компьютера. Она помнит, как проснулась в хорошем настроении и тут же – через несколько секунд – на нее обрушилось осознание того, что дедушки нет, он умер и теперь лежит совсем один в морге горбольницы. Но рядом были люди, они прибежали на ее плач и крик, тормошили, поили валерьянкой, утешали, отвлекали. И Таня смирилась постепенно, свыклась с этой страшной мыслью, которая все равно целиком не помещалась в голове. Весь день она тихо сидела в уголке в обнимку с идиотским плюшевым телепузиком и наблюдала сквозь медленные мутные слезы, как мама, бабушка и кумовья, приехавшие на первой электричке из Луганска, скорбно и сосредоточенно готовятся к похоронам.
– Хотите, я останусь у вас ночевать? – предложила Мицке. – Только маму предупрежу, она отпустит. Хотите?
Соля посмотрела на нее так, будто не расслышала и теперь пытается понять, а потом мелко закивала и сжала ее руку холодными пальцами.
– Вот же бедолага, – сказала Мицке, входя на кухню, где Кид-Кун и Данте курили, выдувая дым в окошко газовой колонки. – Дайте, что ли, и мне сигарету.
– Щас. – Кид-Кун мрачно глянул на нее исподлобья и покрутил пальцем у виска. – Достойный повод нашелся? Может, водки тебе еще налить?
– Может, тебе косяк забить? – охотно подключился Данте. – Или дорожку выложить?
– Козлы, – дежурно обиделась Мицке и вернулась к Соле. Соседство с ней было хоть и тягостным, но по крайней мере ничем не задевало ее чувств.
Ночью, беспокойно ворочаясь на бугристом диванчике Лизы, привыкая к звукам и запахам чужого дома, Мицке время от времени задерживала дыхание и прислушивалась – что там эта женщина, как? Хоть бы не удавилась, не выпрыгнула из окна… Хотя какой смысл из окна прыгать – у них же дом одноэтажный. В какой-то момент, мучаясь от бессонницы – состояния нового, отвратительного и тревожного, – Мицке пожалела о своем великодушии. Чем она помочь может? Да ничем. А благими намерениями, как говорит бабушка, вымощена дорога в ад. Или «в зад», как сказал бы пошляк Кид-Кун.
Мицке встала, пошла на кухню. Соля сидела возле подоконника и что-то шептала, накручивая на палец сиреневую мохнатую резинку для волос. Посмотрела на Мицке, босую, закутанную в куцый бежевый пледик, и сказала:
– Спасибо тебе, ребенок. Я бы уже умерла, наверное. Наверное, я бы просто исчезла. А так слышу – ты дышишь в комнате. И я терплю, терплю, ничего…
Мицке подошла поближе, помедлила, зачем-то потерла ладошкой о плед и осторожно погладила Солю по коротким седым волосам. И вдруг вспомнила, что полгода назад, в библиотеке, волосы у нее не были седыми. Они были каштановыми, блестящими, красиво подстриженными. Мицке тогда еще вспомнила мамахена с ее допотопным узлом на затылке. Ходит тоже, как Надежда Константиновна Крупская, только пенсне не хватает. Они в детстве с девчонками такие узлы называли «дуля».
А ведь мамахен с библиотекаршей небось ровесницы – сорока еще нет… Сейчас, ночью, спустя сутки после исчезновения Лизы, Соломия Михайловна выглядела как старушка и движения у нее были старческими, лишенными особого смысла. То спичечный коробок передвинет с одного места на другое, то скатерть поправит, то примется теребить поясок халата.
При этом Соломия Михайловна прислушивалась, реагировала на каждый шорох, и было ясно, что спать она не собирается, так и будет сидеть до рассвета.
– А знаете что? Часы остановились. – Мицке смотрела на циферблат на стене: время замерло на половине двенадцатого ночи. Она пошарила в кармане кофты и вытащила мобильник. – Без двадцати пять утра уже, Соломия Михайловна. Вы бы полежали немножко. Вы меня слышите?
– Это я остановила часы, – сказала Соля. – Вынула батарейку.
– Зачем?
– Они тикают. Мешают сосредоточиться. Я не могу вспомнить…
– Вспомнить что?
– Что я ей сказала, перед тем как закрыть за ней дверь. Ведь что-то сказала…
– Что-то обидное? – Мицке села напротив и попыталась заглянуть ей в глаза. Бесполезно – глаза библиотекарши смотрели сквозь нее.
– Нет, почему обидное? Что-то обычное. До того обычное, что теперь и вспомнить не могу. И еще почему-то мне кажется…
Черная молния вдруг со свистом ворвалась в открытую форточку, промчалась через всю кухню, срикошетила о стену, снова пролетела между ними и со страшным шумом ударилась об оконное стекло. Мицке завизжала от ужаса, зажимая руками уши, чтобы не слышать пронзительного металлического писка, который доносился откуда-то из-под ног. Соля поднялась с видимым усилием, стащила с плеча шерстяной платок и вдруг быстрым движением бросила его на пол.
– Это летучая мышь, – пояснила она спокойно. – Видишь, упала под батарею.
Мицке, тяжело дыша, смотрела на маленькую зубастую пасть и черные кожистые крылья с когтями на концах. Соля, вытянув руку, держала это чудовище сквозь платок.
– Фу, гадость! – От омерзения Мицке передернуло. – Выбрасывайте уже ее!
– Они не опасные. – Соля зачем-то потрясла мышь, отчего та отчаянно завертела головой. – Только очень уж противные. На чердаке живут, прямо над нашим окном. Постоянно промахиваются и залетают. На украинском языке ее называют «кажан», ты в курсе? Сетку бы надо на окно, да… Мы с Лизой привыкли уже. – Она выпустила мышь в окно, отряхнула платок и сказала: – Я вспомнила.
– Что вспомнили? – Мицке дрожащей рукой прикрыла форточку – не хватало еще, чтобы этот богопротивный кажан залетел снова.
– Вспомнила, что я ей сказала. Я сказала: «Возвращайся не позже шести».
* * *
– …И пошла как побитая. Да. Ну, так вот…
– Так чего ей ответили в милиции-то? Не по́няла. Чего ответили-то?
Бабки у подъезда хрущевки провожали взглядом две женские фигуры. Старшая шла, едва переставляя ноги, младшая подпрыгивала взволнованно, по-воробьиному, забегала вперед, пытаясь заглянуть в лицо старшей.
– А что за девчонка с ней? Не местная девчонка? А, это родственница, видать, приехала к ней. Племянница.
– Да какая племянница! Это Танька, Светки Мальковой дочь.
– Продавщицы?
– Да не продавщицы, лаборантки из санстанции…
– Так а чего ей в милиции ответили-то?
У Соли как будто обострился слух, она слышала все – этот вязкий диалог у подъезда, жужжание мотора «Жигулей» инвалида Фульмахта на параллельной улице, звонки мобильников в карманах у редких прохожих. Даже сонное кисловатое дыхание теста, что подходило в тазу под желтой марлей на подоконнике дома, мимо которого они с Мицке шли в данный момент. И стук сердца взволнованной Мицке она, конечно, слышала тоже.