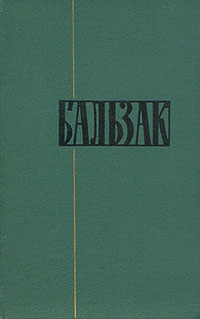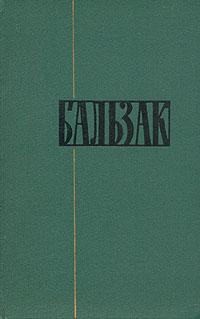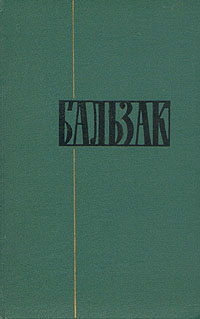Книга Лилия долины - Оноре де Бальзак
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обед прошел весело. Увидев цветы, которые я преподнес ему вместо венка, Жак бросился мне на шею, по-детски радуясь этому вниманию. Графиня сделала вид, что рассердилась на меня за измену. Легко себе представить, с какой милой улыбкой мальчуган подарил матери букет! После обеда мы втроем сели за триктрак; я играл один против супругов де Морсоф, и граф был в превосходном настроении. Наконец, когда стемнело, они проводили меня до дороги, ведущей во Фрапель; стоял один из тех вечеров, которые успокаивают душу, и наши чувства, теряя свою пылкость, становятся лишь еще глубже. Это был неповторимый день в жизни бедной женщины, светлый луч среди мрака, и часто в тяжелые минуты она мысленно возвращалась к нему. В самом деле, уроки верховой езды вскоре стали причиной раздора в семье. Графиня не без основания опасалась для Жака резких выходок отца. Мальчик уже похудел, его прекрасные голубые глаза запали, однако он предпочитал страдать молча, лишь бы не беспокоить свою мать. Я решил помочь ему и посоветовал ссылаться на усталость всякий раз, как граф выйдет из себя, но все было напрасно: пришлось взять учителем верховой езды старика берейтора, хоть граф и сердился, не желая уступать своего ученика. Придирки и сцены возобновились; г-н де Морсоф беспрестанно жаловался на женскую неблагодарность и раз двадцать на дню попрекал жену коляской, лошадьми и ливрейным лакеем. Наконец произошел один из тех случаев, которые особенно раздражают взбалмошных и неуравновешенных людей, вроде г-на де Морсофа: расходы по перестройке Кассина и Реторьера оказались вдвое больше, чем он предполагал, ибо пришлось заново возводить стены и настилать полы. Рабочий, принесший эту весть, к несчастью, сообщил ее не графине, а графу. Начавшаяся ссора понемногу обострилась, ибо ипохондрический нрав г-на де Морсофа, не проявлявшийся уже несколько дней, как бы стремился наверстать упущенное.
В тот день я вышел из Фрапеля в половине одиннадцатого, тотчас же после утреннего завтрака, чтобы вместе с Мадленой нарвать букеты для гостиной. Девочка принесла и поставила на балюстраду террасы две вазы, а я тем временем бродил по окрестным садам в поисках осенних цветов, таких прекрасных, но уже редких. Вернувшись из последнего похода, я не застал на прежнем месте свою маленькую помощницу в кружевной пелеринке и платьице с розовым поясом. Вскоре я заметил ее плачущей в уголке террасы.
— Генерал, — сказала мне Мадлена сквозь слезы, и в ее устах это прозвище говорило о затаенной ненависти к отцу, — генерал бранит маменьку, идите скорее, надо ее защитить.
Я мигом поднялся по лестнице и вбежал в гостиную; ни граф, ни его жена не только не поклонились мне, но даже не заметили моего появления. Услышав исступленные вопли безумца, я поспешил закрыть все двери и тут же вернулся: Анриетта была белее своего белого платья.
— Никогда не женитесь, Феликс! — воскликнул граф, обращаясь ко мне. — Женщины — исчадие ада; самая добродетельная из них способна выдумать зло, даже если его не существовало. К тому же все они дуры набитые!
И полился поток нелепых, бессвязных фраз. Восхваляя свою проницательность, г-н де Морсоф принялся повторять те глупости, которые говорили крестьяне, отказываясь от новых методов в земледелии. Он заявил даже, что был бы вдвое богаче, если бы управлял Клошгурдом без вмешательства жены.
Несправедливо нападая на нее, крича и грубо бранясь, он бегал по гостиной, опрокидывал мебель и натыкался на стены; затем, прервав себя на полуслове, начинал жаловаться, что у него ломит спину, а голова раскалывается и мозг испаряется из черепной коробки, как, впрочем, испаряются из кармана его кровные деньги. Жена разоряет его. Безумец, ведь он же знал, что из тридцати тысяч ливров дохода, которые он получает, г-жа де Морсоф принесла ему более двадцати тысяч! Да и владения герцога и герцогини де Ленонкур, завещанные Жаку, давали около пятидесяти тысяч франков в год. Графиня молча улыбалась, устремив взгляд на небо.
— Да, Бланш, — вскричал он, — вы мой палач, вы меня губите, я вам в тягость! Вы хотите отделаться от меня, вы лживы, лицемерны. И она еще смеется! Знаете ли вы, почему она смеется, Феликс?
Я молчал, опустив голову.
— Эта женщина, — продолжал он, сам отвечая на свой вопрос, — лишила меня счастья, она так же мало принадлежит мне, как и вам, хотя выдает себя за мою жену! Она носит мое имя, но не выполняет ни одной обязанности, налагаемой на нее божескими и человеческими законами, она обманывает и бога и людей. Она взваливает на меня самые тяжелые дела, чтобы я, утомившись, оставлял ее в покое. Я ей не нравлюсь, видите ли, она ненавидит меня и пускает в ход все средства, чтобы пребывать в девственном целомудрии; она доводит меня до безумия этим вынужденным воздержанием, ибо от него кровь ударяет мне в голову. Она подвергает меня нескончаемой муке и при этом считает себя святой и каждый месяц ходит к причастию!
Графиня горько плакала, оскорбленная низостью мужа, и тихо твердила:
— Сударь!.. Сударь!.. Сударь!..
Хотя, слушая графа, я и краснел от стыда за него и за Анриетту, это признание радостно взволновало меня: ведь первая любовь всегда стремится к нравственной чистоте и непорочности.
— Она блюдет свое целомудрие за мой счет, — возмущенно сказал граф.
При этих словах графиня вновь воскликнула:
— Сударь!..
— В чем дело? — спросил он. — Что означает ваш властный тон? Разве не я здесь хозяин? Или вы еще не убедились в этом?
Он вплотную подошел к жене, приблизив к ней свое лицо, похожее на морду белого волка, которое в эту минуту было отвратительно, ибо желтые глаза графа смотрели жадно, словно глаза голодного зверя, увидевшего добычу. Анриетта соскользнула с кресла в ожидании удара, которого, однако, не последовало, и теперь лежала на полу, сломленная, почти без сознания. Граф был ошеломлен, как убийца, в лицо которого брызнула кровь его жертвы. Я взял несчастную женщину на руки, и муж не препятствовал этому, словно считал себя недостойным нести ее; но он пошел вперед, чтобы открыть дверь спальни, смежной с гостиной, — священной обители, куда я ни разу не проникал. Здесь я поставил Анриетту на пол и обнял ее, чтобы она не упала, а г-н де Морсоф снял с кровати покрывало, перину и поудобнее взбил подушки. Затем мы вместе подняли графиню и положили ее на постель. Очнувшись, она жестом попросила расшнуровать ее; г-н де Морсоф отыскал ножницы и разрезал все, что стягивало талию жены; я дал ей понюхать нашатырного спирта, она открыла глаза. Граф вышел скорее пристыженный, нежели огорченный. Два часа прошли в глубоком молчании. Я держал руку Анриетты в своей, и она пожимала мою руку, не в силах произнести ни слова. Время от времени она устремляла на меня взор, и я читал в нем жажду тишины и покоя; потом она приподнялась на кровати и сказала мне на ухо:
— Как он жалок! Если бы вы только знали...
И вновь опустила голову на подушку. Воспоминание о былых невзгодах и только что перенесенное оскорбление вызвало у нее нервную дрожь, которую мне удалось успокоить лишь с помощью магнетизма любви; действие его было мне незнакомо, но интуиция подсказала мне, что надо делать. Я обнял Анриетту за плечи и долго держал ее, крепко и нежно сжимая в объятиях; она же так горестно на меня смотрела, что я не мог побороть слез. Когда нервный припадок прекратился, я привел в порядок ее рассыпавшиеся волосы, — это был первый и последний раз, что я прикасался к ним; затем опять взял ее руку и погрузился в созерцание этой комнаты, выдержанной в серо-коричневых тонах; простая кровать с ситцевыми занавесками, туалетный столик, накрытый старомодным покрывалом, плохонький диван со стеганым тюфяком — вот и все ее убранство. Но сколько поэзии было в этом убежище! Какое пренебрежение к роскоши чувствовалось во всем! Ведь единственной роскошью спальни Анриетты была ослепительная чистота. Поистине, она походила на келью замужней монахини, исполненной святого смирения! Здесь не было никаких украшений, кроме распятия в головах кровати и портрета тетушки-графини над ним; да еще по обеим сторонам кропильницы висели на стене портреты Жака и Мадлены, нарисованные самой Анриеттой, с прядями волос, срезанных, когда дети были совсем маленькими. Какая скромная обитель для добровольной затворницы, которая затмила бы в высшем свете самых прославленных красавиц! Здесь лила слезы наследница знатнейшего рода, которая безутешно скорбела в эту минуту, и все же отвергала любовь, сулившую ей утешение. Затаенное непоправимое горе! Слезы жертвы над палачом и слезы палача над жертвой! Когда к графине пришли дети и Манетта, я вышел из спальни. Граф ждал меня в гостиной: он уже признавал мою роль посредника в своих отношениях с женой; схватив меня за руки, он воскликнул: