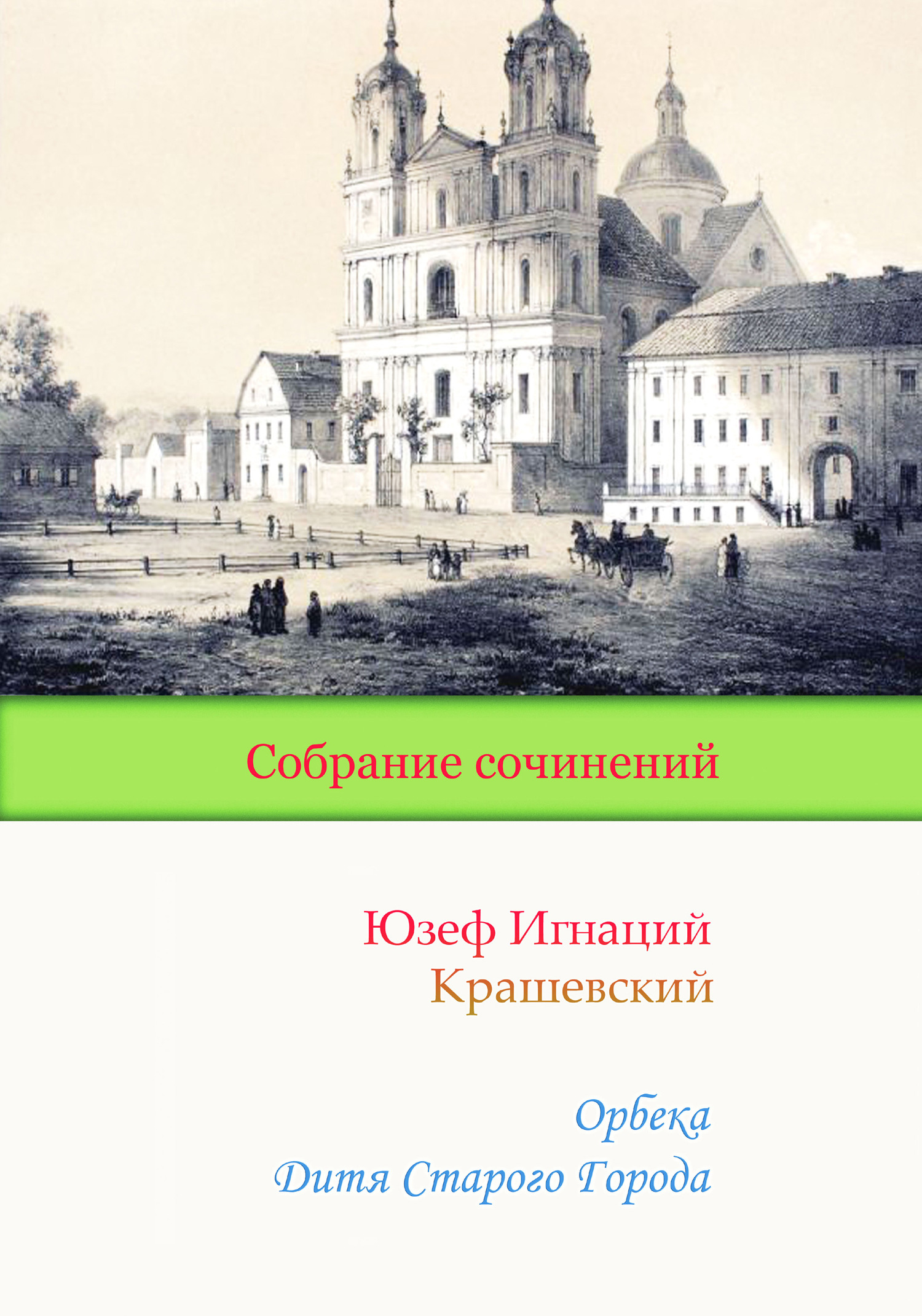Книга Варшава в 1794 году (сборник) - Юзеф Игнаций Крашевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Капеллан стоял на пороге и видение это исчезло, мы снова шли по ряду пустых зал, аж до сеней.
Пустыми улицами я вернулся в замок почти на рассвете, с какой-то грустью в душе – никто меня не остановил, стража ходила, дремля, в приёмной короля, сидя на креслах, служба спала… в кабинете господствовала тишина. Рыкс один дежурил при дверях и, не спрашивая позволения, отворил мне кабинет. Короля я застал одного, с книжкой в руке. Бросив на него беглый взгляд, я увидел жизнеописания Плутарха. Он имел уже более спокойное лицо.
Я вручил ему книжку, отданную мне ксендзем примасом, осмеливаясь обратить внимание наияснейшего пана, что закладка была вложена недавно, словно обозначала ответ; король склонил только голову и попрощался со мной, видно, не желая, чтобы я был свидетелем чувств, какие им овладели. Охотно признаюсь в том грехе любопытства, что, неся Библию, я задержался под фонарём и посмотрел на то место, которое указывала закладка. Я не нашёл в нём ничего, кроме окрика толпы, которая кричала, чтобы Христа распяли, но на самой закладке, видно, раньше написал примас из пророчеств Иеремии, из раздела пятого, тот отрывок, который странно подходил к этому дню:
«Слушайте, глупые люди, не имеющие сердца… вы, что имеете глаза, а не видите, имеете уши, а не слышите…»
К сожалению, народ этот не заслуживал такого прозвище, но имя самого несчастного из народов! Он хотел добра и желал мудрости – не дали ему их, а преследовали; что же удивительного, что он горел безумием и рвался в этой боли.
Исполнив свою миссию, я не знал, что с собой делать, не хотел уходить, пока бы не получил на это позволения. В соседнем покое сидел ксендз, который был с нами наверху; заметив его, я пошёл спросить, что делать. Он поднял ко мне грустный взор.
– Теперь нам нечего делать, – сказал он тихо, – всё расшаталось… бегство невозможно. Мне кажется, что на сегодня не осталось ничего. Прочь, чтобы пан здесь или, где ему удобней, отдохнул.
– Мне нужно об этом донести пану воеводе? – спросил я.
– Несомненно, – сказал он, немного колеблясь, – нужно, чтобы он знал, что старания напрасны. Мы должны пытаться иначе отвернуть опасность.
– Если бы я был нужным?.. – спросил я, уходя.
– Мы дадим вам знать через воеводу… Самая нужная вещь всё-таки, – шепнул он мне, – чтобы вы имели око на расположение народа и тех, кто его подстрекает… а в случае, если бы замку и королю угрожали, могли дать знать заранее.
И с тем я ушёл уже утром и, не думая, чтобы в эту пору я мог бы достать до воеводы, вернулся домой.
* * *
Усталость, уныние, какое-то отвращение меня мучили… я хотел вырваться из этого городского хаоса на поле боя. Борясь с мыслями, я лихорадочно уснул.
Моё утомление было так велико, что не проснулся даже до полудня.
Стучали в мою дверь… я вскочил, в чём был, потому что спал одетым, и, отворив дверь, увидел перед собой самого пана воеводу, который вытирал с лица пот, взобравшись по тёмной и неудобной лестнице наверх.
Я взглянул на часы и испугался, что так было поздно, я стал объясняться…
– Да брось, – сказал он мне, – ты ничего не должен, ты вчера сделал, что мог, я был у короля… я всё знаю.
Он опустил голову и опёр её на трость – из глаз брызнули слёзы.
– Уже нечего делать… короля спасём, а там тот уже, по-видимому, от всякой опасности избавил себя.
– Кто? – воскликнул я, удивлённый.
– Ксендз примас…
– Как это? Ушёл?
– Нет – умер, – сказал Неселовский спокойно.
Не могло в моей молодой голове поместиться, чтобы человек, которого я видел вчера полным сил и здоровья, сегодня уже не жил.
Я стоял безмолвный.
– Этого не может быть, пане воевода, – воскликнул я, – я вчера ночью был у него, говорил с ним, вот, есть чётки, которые я получил от него с благословением, был вполне здоров… в сознании.
– Пойди к дворцу примаса, внизу увидишь его уже на катафалке, – ответил воевода, – нечего уже в замке делать. Что думаешь?
– Возвращусь в войско! – воскликнул я живо. – В городе я не мог бы дольше выжить, тут мне душно, тесно и не знаю ни с кем держаться, ни что мне совесть прикажет делать. В поле! В поле! С саблей, на коне… буду…
Я поцеловал руку воеводы.
– Ты прав, – сказал он, – там лучше и здоровей, здесь – только приговорённые к тому, чтобы управляли тем, что само собой никогда не даётся, должны мучиться.
Старик вздохнул.
– До тяжких времён мы дожили, – добавил он, – минута свободы, одна минута, одна вспышка, после которой я боюсь более тёмной ночи, чем когда-либо. Я старый, может, плохо вижу, но меня охватывает тревога. Восстания идут бессильно и медленно. Курляндия, действительно, поднялась, но мы утратили Краков, Австрия выступает против нас. Пруссаки в любой день осадят Варшаву.
Пророк не докончил, посмотрел на меня, ударил по плечу.
– Ты свободен, – сказал он, – пришёл тебе это объявить, потому что не ушло от моего внимания, что за секретные работы ты не очень охотно брался. Возвращайся в войско, но прежде чем туда отправишься, приди ко мне.
Проводив воеводу, немного одевшись, я сошёл вниз и наткнулся на рассказ камергера, который ввёл меня в ступор.
Камергер как раз описывал, как изъяли письмо примаса к пруссакам, как угрожали виселицей, и что Коллонтай послал к королю объявить и предостеречь его, что людей не задержит, чтобы спасти примаса. Согласно уличному рассказу, Коллонтай даже послал яд для избежания позора. Другие говорили, что король ночью переслал предостережение и порошок, что примас, слыша шумящий народ на улицах, взял из табакерки того усыпляющего навеки лекарства и, вскоре потом уснув, окончил жизнь. Слушая его, я, естественно, не смел ничего говорить, но у меня в голове было письмо и коробочка, которые я отнёс.
Рассуждения об умершем были очень разные, могу это сегодня сказать – не очень справедливые. Примас на самом деле был сторонник союза с Россией и всегда к нему склонялся, но делал это из глубокого убеждения и из образа взгляда на дела страны. Никогда не был платным и не унизил себя ничем предосудительным. Был определённо самый умный, самый энергичный из всей семьи, но холодный, серьёзный, не боящийся говорить правды, популярным не был. Бросали на него пятно жадности после заключения Солтыка, хоть от администрации и фондов краковского епископства отказался… не