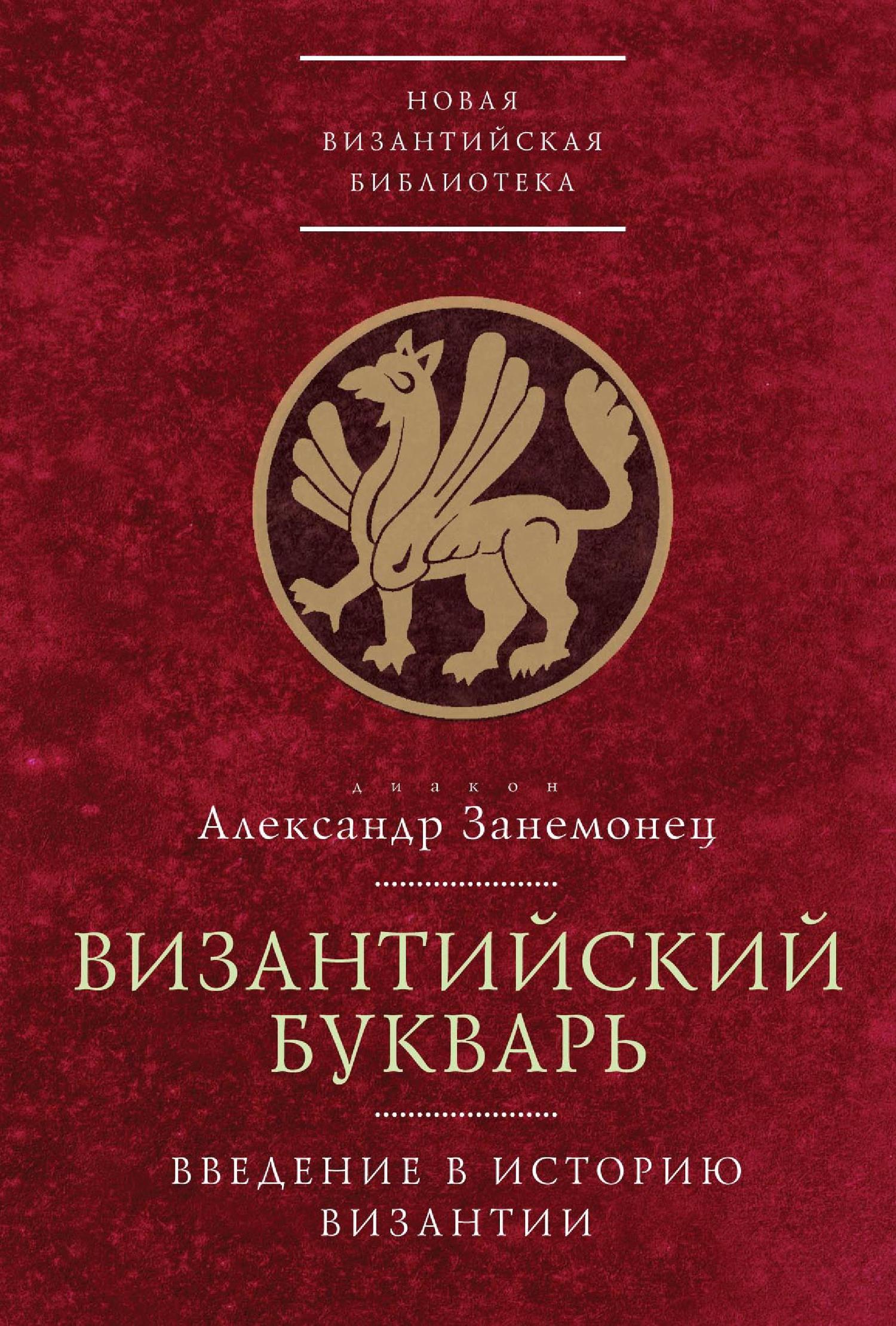Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да и не подготовлялось ли это горестное пробуждение давно, глухими подземными толчками? Нет, начисто отрицать все, что смущает нас в новых веяниях, невозможно, иначе как по слепоте, или в безнадежно-юлиановском стремлении остановить самое время… Но нельзя и не искать возражений, поправок, которые в этом идеологическом хаосе восстановили бы некоторый порядок. Нельзя не видеть, сколько в этих «веяниях» плохо проверенного, слишком торопливо согласившегося на сдачу всех позиций, а особенно – подчеркну это еще раз, – нельзя не видеть, сколько в них дальновидного коммерческого расчета, под личиной стихийного протеста… И проникло это всюду! В мораль, в поэзию, в искусство, – всюду! На одного богоборца Ницше, на одного визионера Рэмбо, – о которых без усмешки можно сказать, что они что-то «выстрадали» – или даже на одного Франца Кафку, или даже, даже, даже на одного Сартра, приходятся сейчас сотни и тысячи молодых людей, которым в сущности полагалось бы пробиваться к житейскому успеху в литературе путем самым обыкновенным, сочиняя стихи о цветах и женских головках, или выпуская солидные бытовые романы. Но у них обостренный инстинкт, они знают, как преуспевания добиться, а помимо того – и порой вполне чистосердечно, – они верят в свое поэтическое безумие, они готовы поклясться, что их жжет и терзает метафизическое отчаяние, знакомое им лишь понаслышке, переданное им из десятых рук…
Пора, однако, вернуться к Алданову, как бы не заманчиво было найти время и место, чтобы поговорить на эти темы обстоятельно. Для Алданова характерно и существенно сопротивление, пусть и пассивное, всему тому, о чем я только что упомянул. Ему эта его роль, эта его поза (без позирования, конечно, а в смысле attitude, т. е. отношения) сравнительно легко далась по самым свойствам его творческой натуры, менее всего «лихорадочной», лишенной каких бы то ни было паскале-достоевских отзвуков. Опасность соблазниться внеразумным восприятием мира ему мало угрожала. Обычно люди к Алданову, как к художнику, безразличные или даже ему враждебные, упрекают его именно в некотором прозаизме вдохновения; в отсутствии того поэтического колорита, а в особенности ритма, без которых слово как бы лишается крыльев. Открытие нового «тона», сделанное романтизмом, – или, вернее, не открытие, нет, а воскрешение того, о чем было забыто в век вольтеровский и что детьми и внуками первых романтиков было углублено и развито: «ип frisson nouveau», т. е. «новый трепет», по Виктору Гюго, – сохраняет власть и над нашими современниками, и если на эту почву стать, упрек, делаемый иногда Алданову, становится понятен. Однако, отсутствие черт, по-своему высоких и ценных, дало ему возможность укрепить другие черты, не менее высокие и ценные.[9] Даже то, что в композиции романа он далеко оставил за собой всех писателей послетолстовского поколения, основано на трезвости его подхода к творчеству. А по существу, дело тут в чем-то много более важном, чем вопросы литературной техники.
Книги Алданова – грустные и трезвые книги, без игры, без риска, при всякой игре неизбежного, без волшебства и фантазии: однако во всех этих «без», список которых можно было бы и удлинить, есть глубокий смысл. В книгах этих отражено чувство ответственности за человека, за жизнь вообще, с которыми игр, жестоких или фальшивых, велось и ведется слишком уж много… Да, мир беден, – но что же, от ваших картонных декораций – как будто сказано в этих книгах, – от ваших грошовых обольщений и феерий, он стал бы свободнее и богаче? Да, в жизни много тяжелого, давящего, ужасного, но что же, от ваших «неприятий» ее, как выражались символисты, что-нибудь действительно изменится? Будьте осторожны, не доиграйтесь до того, что и предвидеть вам трудно! А литература, поэзия, – неужели нет малодушия в стремлении увести их под облака, подальше от печальной и темной нашей жизни, под предлогом какого-то «навевания снов золотых»? Да и что это за сны золотые? Все – мишура, самообман, которые давно уже длятся и может быть будут длиться еще долго, хотя и не станут от этого лучше. Быть как дети, в том смысле, в каком сказано это в Евангелии, – хорошо, но в другом смысле это значит впасть в детство, только и всего, и не то ли происходит с людьми, которым нужны забавы и затеи под любыми приправами?
Всего этого нет в книгах Алданова, как нет в книгах Гёте того, что находит в них Вермандуа. Но чтение между строчками – дело заманчивое, и если есть в этом деле опасность ошибиться, то есть и возможность узнать кое-что основное. По крайней мере у писателей, которым «есть что сказать». То, что говорит Алданов, его «message» – смутно напоминает чеховское «надо дело делать», с поправкой, конечно, на совсем другую обстановку, на отсутствие пробуждающейся и требующей «дела» России. Он ни к чему