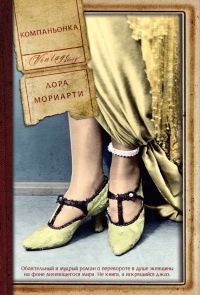Книга Бал безумцев - Виктория Мас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Женевьева обводит взглядом помещение. Она чувствует себя нелепо здесь, в тесной палате, наедине с незнакомкой, в ожидании призрака своей покойной сестры.
– И… что же мы будем делать?
– Ничего.
– Ничего?
– Будем ждать, что она появится, вот и всё.
– А ты не должна ее… призвать?
– Она приходит не ради меня, а ради вас.
От этих слов Женевьева вздрагивает, затем, заложив руки за спину, принимается мерить шагами тесную комнатку. Ее челюсти плотно сжаты. Время идет. За запертой дверью то и дело слышатся шаги – и обе женщины каждый раз задерживают дыхание, но шаги удаляются по коридору, и они снова начинают дышать, слегка расслабившись. Со двора вдруг доносится мяуканье – два бродячих кота спорят в темноте из-за дохлой крысы, а может, из-за своих владений. Через несколько минут страсти накаляются, ссора переходит в схватку – в ход идут острые когти, коты визжат и шипят, наконец кто-то из них одерживает победу или оба отступают с поля битвы, и мало-помалу снова воцаряется тишина, больница погружается в сон.
Проходит больше часа. Женевьева, сидевшая на краешке койки, вскакивает, потеряв терпение:
– Ну что? По-прежнему ничего?
– Я не понимаю… Раньше она являлась сразу.
– Ты лгала мне с самого начала?
– Разумеется, нет. Она приходила два раза, вместе с вами.
– С меня довольно. Я знала, что тебя нельзя слушать. Ты останешься здесь.
Эжени не успевает возразить – Женевьева уже направилась нервным шагом к двери. Она хватается за ручку, но не может открыть створку – дергает, толкает и недоумевает, в чем дело.
– Да что же это…
– Она здесь.
Женевьева оборачивается. Эжени, сидящая на койке, поднесла руку к горлу – ей трудно глотать; темноволосая голова слегка склонилась вперед, лицо сделалось таким бледным, что сестру-распорядительницу охватывает дрожь.
– Что-то… с вашим отцом… Ему было плохо… он упал и расшибся…
Эжени расстегивает воротничок платья, чтобы вдохнуть. Женевьева прижимает руку к животу – внутри все скрутило от страха.
– Что ты такое говоришь?
– Он ударился головой… о край деревянного стола на кухне… поранился… разбил бровь… левую… и потерял сознание.
– Да откуда ты знаешь?!
Эжени сидит с закрытыми глазами, речь ее изменилась – голос тот же, знакомый, но она говорит размеренно и монотонно, будто читает какой-то текст без выражения. Женевьева в ужасе пятится от нее, пока не упирается спиной в дверь.
– Он лежит на кухне, на черно-белых плитках пола… Это случилось сегодня вечером. После ужина он почувствовал себя дурно… Утром ходил на кладбище… Принес желтые тюльпаны на могилы вашей матушки и Бландины… Два букета, шесть цветов в каждом… Ему нужна помощь. Езжайте к нему, Женевьева.
Девушка открывает глаза и смотрит в пустоту. Она сгорбилась, ей все еще трудно дышать; тело, лишенное энергии, обмякло и отяжелело. Неподвижная на краю койки, Эжени с широко распахнутыми глазами похожа на тряпичную куклу, брошенную ребенком.
Женевьева стоит несколько мгновений, окаменев. У нее сотня вопросов, но она не в силах произнести ни слова. Рот приоткрыт, на лице – ошеломление. Вдруг тело, словно подстегнутое кем-то, начинает действовать само – Женевьева поворачивается, резко опускает дверную ручку, которая на сей раз поддается, с силой распахивает створку и, шумно хлопнув ею за собой, бросается прочь из этой палаты, в которой все началось.
13 марта 1885 г.
Городок Клермон еще спит, когда Женевьева останавливается перед отчим домом.
Накануне все происходило очень быстро. Она помнит, как выбежала из палаты, как по дороге столкнулась с двумя медсестрами и предупредила их, что будет некоторое время отсутствовать, затем торопливо миновала главную аллею и остановила на Больничном бульваре первый попавшийся фиакр. На улицах Парижа царило оживление, будто все эти люди сбежались сюда, услышав о том, что случилось в палате.
Последний поезд шел с остановками в Клермоне и в дюжине других городков на своем пути. Сев у окна, Женевьева обнаружила, что на ней все еще медицинская униформа, и невольно провела рукой по складкам белого передника, будто этот жест мог волшебным образом превратить рабочую одежду в обычную. Собственное отражение в стекле ее испугало: под глазами темные мешки, белокурые локоны со всех сторон выбиваются из шиньона. Она пригладила безжизненные прядки назад. Пассажиры вагона с любопытством поглядывали на запыхавшуюся медсестру, и Женевьеве казалось, что у каждого уже сложилось свое неколебимое мнение о ней, что ее поведение представляется им ненормальным, и теперь, что бы она ни сказала в свое оправдание, что бы ни сделала, это мнение уже не изменится. За годы, проведенные в Сальпетриер, Женевьева усвоила, что домыслы куда сильнее фактов и приносят непоправимый вред – излечившаяся пациентка останется в глазах общества больной, никакие доводы тут не помогут, истина будет бессильна перед ложью.
Поезд оглушительно засвистел, и от этого свиста сотрясся весь вокзал. Механизмы черной махины начали оживать один за другим, тяжелые колеса завертелись, с натугой набирая обороты в неумолимом, сокрушительном движении.
Утомленная чужими взглядами, Женевьева прислонилась головой к оконному стеклу и мгновенно провалилась в сон – глубокий, без видений. Изредка она просыпалась, если вагон начинало сильнее трясти или когда паровоз разражался свистом на очередном полустанке, и понимала, что от усталости, сковавшей тело и разум, не может разомкнуть веки. Она пробуждалась, чувствовала, что поезд все еще пребывает в движении, и снова засыпала. Ей казалось, так можно проспать несколько дней подряд. В редкие секунды бодрствования перед глазами тотчас вставала картина: отец, лежащий на кухонном полу, – и Женевьева вспоминала, где она находится и почему. Хотелось громко позвать его, крикнуть во весь голос, но на это не было сил, оставалось только мысленно обращаться к нему, умолять продержаться еще чуть-чуть, дождаться ее, она скоро приедет.
Окончательно проснулась Женевьева уже на рассвете, в той же позе, привалившись головой к оконному стеклу, и открыла глаза – вдали, на фоне чистого неба с бледно-розовыми мазками облаков, на горизонте, будто гигантские валы, вздымались силуэты овернских гор. Над этим волнистым ландшафтом величественно возносился вулкан Дом – выше и осанистее прочих, король в этих владениях спящих вулканов.
Перестук колес еще звучал в ушах, когда Женевьева шла по Клермону, по улочкам родного городка, и тряска не отпустила тело, которое словно качалось в ритме, заданном всем путешествием на поезде. Над крышами с рыжеватой черепицей торчали башни-близнецы собора, как две грозные темные пики. В облике этого храма – черного скелета, резко вычерченного на безмятежной зелени гор, – было что-то неколебимо суровое и пугающее.