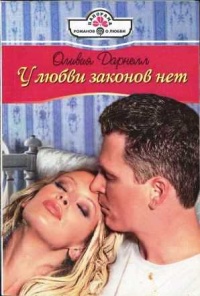Книга Искупление - Элеонора Гильм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Будешь знать, как соседей хаять! – щелкнула Аксинья по лбу Матвея.
– Я правду говорил.
– Правда не всякому по душе. Взрослый уж, знать должен.
– Не буду молчать…
– Да куда ж девалась молчаливость твоя… Слова не вытянешь, помню…
– У нас теперь Нютка молчальница, – отрезал Матвей, и Аксинье расхотелось продолжать разговор. За больное задел.
На следующий день Тошка притащил две дюжины крупных коричневых тараканов, они суетливо копошились в берестяном коробе. Парень с гордым видом открыл крышку, и две мелкие твари сразу выбежали из заточения.
– Лови, Тошка! – засвистел Матвей.
Тошка сграбастал их ладонью, расплющил на полу.
– Должно хватить, я на дюжине со счету сбился.
– Уймитесь оба. Антон, через два дня за зельем придешь. Да плату не забудь, – строго напомнила Аксинья.
После того, как Тошка ушел домой, кинув на прощание тоскливый взгляд на друга, Матвей спросил:
– Правда плату брать будешь?
– Нечего моего племяша дубасить, – ответила Аксинья, улыбнулась. – Тебе во дворе поможет, вот и вся плата. Они будто родные, какие с них деньги.
Спустя неделю поздним вечером опухший, встрепанный Заяц робко постучал в соседскую дверь.
– Аксинья, открой.
Матвей отодвинул засов, отступил назад, приглашая в дом соседа.
– Все я. Шестой день чист.
– Надолго завязал?
– Все, вот те крест, – перекрестился на иконы Гоша. – Матвей, ты бы вышел.
– Секреты ваши… – буркнул Матвей и вышел из избы.
– Аксинья, ты снадобье дала?
– Я.
– Пытаю Тошку, а тот не сознается.
– Устали мы на тебя, пьяного, изо дня в день смотреть. А Марфа уж…
– Досталось женке… По субботе взял в рот пойло – и как назад полезло… Всю ночь полоскало. Теперь и смотреть не могу!
– Рада за тебя.
– Ты знаешь, я ведь не по дурости пил. – Георгий сел на лавку, поерзал, устраиваясь поудобнее.
«Надолго», – поняла Аксинья.
– С горя?
– Дочку мы с Марфой потеряли, горе. Да не только в том дело…
– В чем?
– Когда младшенький мой, Ждан выжил… Я ведь обет дал… Церковь выстроить… Хоть малый, да дом Божий.
– Хорошее дело, Георгий. – Аксинью уже раздражал этот разговор. Сказать ему, что ли, на чем отвар целебный настоян?
– Хорошее… да боюсь я…
– Чего ты боишься, мил человек?
– Ульянку я того… Да не покаялся… Можно ли такому человеку храм Божий строить?
– С Яковом поговори, он тебе поможет.
– Яков не знает. Марфа не знает. Только тебе я сказал.
– Доверие мне оказал, сосед. Бабий ум короток, что скажу тебе… Раз дал обет – выполняй, благое дело зачтется.
Довольно улыбающийся Георгий распрощался с Аксиньей. «Наивный человек, – удивлялась она, расплетая косы, укладывая спать дочку. – Борода сединой взялась, а он со знахаркой, ведьмой, грешницей советуется, строить ли церковь в деревне».
Чудны дела твои, Господи.
Давно не спускалось на пермскую землю такое лето, раннее, теплое, с ночными ливнями и ласковым солнцем. Русалки ночами плескались в Еловой, серебрились рыбьи хвосты, сверкала обнаженная грудь под луной. Демьян сказывал, что одна из русалок заманить его хотела в водные чертоги да мужем оставить. Целовала холодными губами, опутывала волосами зелеными, а он вырвался – и бежать. Над Демьяном смеялись, не верили чудаку, однако ж мужики с опаской, а некоторые – с надеждой – посматривали на зеленоватые воды кроткой Усолки: кто знает, вдруг покажется водная дева, стряхнет с груди капли, поманит…
– Красивая, – благоговейно протянул Матвей, листая старую книгу. «Вертоград», потрепанный, с потрескавшейся обложкой из телячьей кожи, Аксинья читала каждую ночь при свете лучины. Пламя колебалось, отбрасывало причудливые тени в углы избы, дразнило домового. Нюта видела седьмой сон, Аксинья постелила ей в клети, где ночная прохлада разогнала дневную духоту.
– Дар от Глафиры. Много я от нее узнала… порой родители ругали меня, что целыми днями у нее торчала. Хорошая она была, добрая.
– Как ты?
– Глафира была куда лучше меня. Она знала человеческую породу до донца. И прощала. Я злее, – сказала Аксинья и поняла: правда. Не могла она забыть людям глупость, жестокость, предательство…
Если тебя ударят по левой щеке – подставь правую. Обидят – прости. Высмеют – отвернись. Изменят – поцелуй изменника в уста.
* * *
– Ног не чую, – жаловался Матвейка, пришедший с поля.
– Ты силу свою береги, натуга – дело худое.
– Бер… бререгу.
Аксинья погладила его по коротко остриженной голове. Обкорнала кудри Матвейке, чтобы жара не донимала. Растекся братич радостью от редкой ласки. А тетка спохватилась:
– Запах хмельной от тебя идет! Петров пост не закончился! С Тошкой опять налакались!
Тошка утащил большой кувшин с пивом у отца, который задвинул питье в дальний угол – чтоб не искушать бесов.
Охальники пили хмельное в сараюшке, где когда-то Василий Ворон с сыном занимались гончарным мастерством. Печь, полки, инструменты так и пылились в мастерской, у хозяйки не поднималась рука избавиться от них.
– Да мы чучток… чуток… Устали… Не ругай…ик…ся… Станая старовишься… Старая становишься… – Матвейкин язык заплетался.
– Ах ты, дурилка. – Аксинья схватила полотенце и хлестнула племянника по лицу. – В сени иди спать, телеух![16]
После вечера у Прасковьи, когда пышная Лукаша обещана была в жены юному Матвейке, он от рук отбился: гулял с другом до утра, заливал кадык пивом, спорил с теткой. На все теткины замечания отвечал одним: «Я мужик, женюсь скоро. Надо погулять напоследок». Давно ли бранил соседа за пьянства, поносил дурными словами, а теперь сам не лучше.
Аксинья не раз вспомнила худым словом Прасковью, отложившую свадьбу до Рождественского мясоеда. Обвенчали бы молодых летом – глядишь, Лукерья помогла бы обуздать гуляку, заманила в тенета жарких поцелуев. А сейчас оставалось лишь вздыхать, бранить Матвейку и надеяться, что ничего дурного друзья в пьяном угаре не сотворят.
Утром Матвей хмуро поздоровался, небрежно перекрестился на иконы, влил в себя две миски постной похлебки на ячмене и ушел на поле. Когда Аксинья доила Веснушку, выпускала ее с теленком за ворота навстречу мычащему и блеющему стаду, кормила немалое хозяйство, обихаживала сонную дочку, внутри нее звенело пьянящее чувство. Оно застилало все заботы, разгоняло кровь, возвращало молодость.