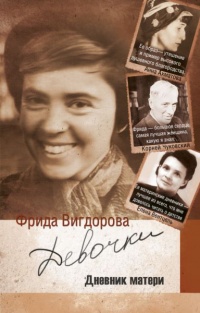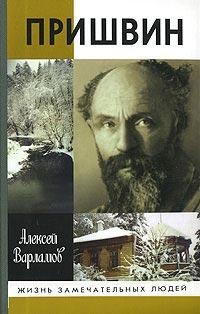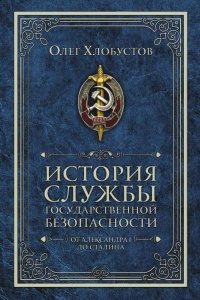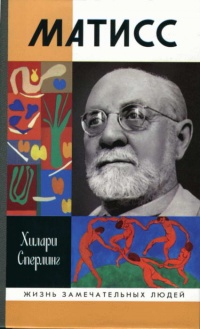Книга Маятник жизни моей... 1930–1954 - Варвара Малахиева-Мирович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вторая… Но не буду о ней здесь писать. Расскажу о ней сегодня в письме Лису. И может быть, вынется этим из ее дней (и ночей, как у меня) иголка из сердца, оставшаяся после моего пребывания под ее кровом. А третья иголка – Игорь. Его молчание в ответ на мою просьбу поговорить о моем устроении на май в комнате его близкой соседки учительницы Зинаиды Петровны. Он предлагал жить все лето у него (до Олиного предложения, которое было для меня неизмеримо притягательнее). Когда все пошатнулось на Пятницкой, встал опорной точкой Игорь.
.. Кошмарного разряда случай, рассказанный вчера Леониллой. В квартиру артистки Степановой, жены писателя Фадеева, молодой и красивой, позвонила женщина, тоже молодая, и, когда ее впустила в прихожую сама хозяйка квартиры, вошедшая, ей неизвестная особа, бросилась на нее с бешеными поцелуями, стала душить в объятиях, растерзала на ней одежду и принялась кусать и царапать лицо и грудь. На крик Степановой могла прибежать только няня и маленькие дети. В квартире больше никого не было. Няня позвала на помощь соседей. И они отбили у сумасшедшей ее жертву. К счастью, повреждения, нанесенные ей, все излечимы. Но ведь могла бы эта налетчица, точно в трубу влетевшая к бедной Степановой, и нос ей откусить, и язык вырвать изо рта.
Темная история, но, вероятно, ворвавшаяся к Степановой была душевнобольная. Об этом те, кто рассказывал это Алле в театре, ничего не знали.
22 мая
Свидание с Евгением Германовичем и с двумя грузинками – его женой и сестрой жены, приехавшей в Москву. Очень меня влечет – и даже очаровывает строение и настроения, особенность грузинской женской души. Может быть, потому, что и жена Евгения Германовича, и сестра – явление культурного слоя своей нации и обе с богатством содержания, индивидуально оформленного в их внутреннем мире. Обе почувствовали, как они привлекательны для старой бабки, и были со мной солнечно-нежны и порывисто, до поцелуев и объятий, приветливы. Мне было с ними очень хорошо в те два часа, какие я провела у них. Сначала за чаем – с тем угощением, которое Евгений Германович знает, что мое “гортанобесие” сделает меня к нему неравнодушной (сардинки, еще какие-то рыбки, как то: национальное грузинское печенье, кавказский сыр, варенье). И характер угощения, уют и особенность лица комнаты. И светло – по-родному улыбающиеся два милых женских лица делали чайное пиршество праздничным. Но… почему же я уходила с какой-то занозой в сердце?
Сейчас, задумавшись об этом наедине с собой, в строгом отрешении от себя, от моей “самости”, – с некоторым удивлением и печалью вижу, что причина занозы лежит в Евгении Германовиче. В его словах во время разговора за чаем, что, если бы какими-нибудь научными способами могли продлить человеческую жизнь – “под условием «в трех измерениях», – согласился ли бы он жить (не выходя из этих измерений) еще 300 лет (таков был мой вопрос). Он с живостью ответил – “и даже больше, чем на 300”.
Жена его (сегодня я впервые узнала ее грузинское имя – Ли) с ласковым юмором сказала: он бы и на тысячу лет согласился. Тут что-то помешало концу разговора – меня обе грузинки (сестру зовут Ли-Ли) устроили “полежать” на диване и посмотреть чудесный архитектурный альбом Кавказа. И я точно побывала в горах, в грузинских храмах, в развалинах на вершине гор – неописуемой живописности.
27 мая. Ночь. Ночь за полночь
“Если мы дети Бога, значит, можно ничего не бояться” – эта мысль самого искреннего, самого глубокого и самого одаренного в области творческой оригинальности изложения своих идей Льва Шестова так гениально убедительна своей простотой, что, натолкнувшись на нее, мне захотелось поделиться ею с Леониллой, поникшей в томлении разлуки с Ниной, спящей в земле Лефортовского кладбища[923].
Философией и литературой какого-нибудь другого автора я не решилась бы утешать ее, чуждую интереса к таким книгам. Но когда я, напомнив темы некоторых книг Льва Исааковича, процитировала ей мысль его, что детям Бога нечего бояться и не о чем жалеть, она приподняла низко опущенную голову, и в лице ее отразилось внимание и понимание, какое утешение несут эти слова Льва Исааковича, благодарность за них ему.
1.6-21.6.1952
1–4 июня
Куда переедет обветшавший чемодан и ветхая деньми[924] старость моя, еще не знаю. Очень дружественно вникает в эти вопросы Леонилла. Сегодня, когда забежал с работы Юра (психиатр), усталый от избытка профессиональных забот и каких-то целительных новшеств, им придуманных в жизни его пациентов, мать энергично привлекла его к совещанию о моих летних судьбах. Он посоветовал обратиться к сыну его Котику (аэронавт, теперь на географическом факультете, кажется, последний год).
– Вот и хорошо, – сказала я Юре, которого очень люблю и высоко ценю, – у Котика твоего каким-то чудом уцелел, у одного из всех ваших родных, кроме вашей мамы (Леониллы Николаевны), какой-то живой контакт с баб Вав (в детстве и в первой юности они все были очень близки со мной).
16–17 июня
Что вспомнится, что само напишется. Ушибленная о тротуарный асфальт (третьего дня) голова пуста. Если не считать набегов “мозговой тошноты”.
Смотрит в балконную дверь ласковый свежий, тихий вечер. Не шелохнутся верхушки высоких деревьев старинного барского сада, окаймляющего невысокий, с толстыми колоннами дом, рядом с которым высится шестиэтажное здание, где на пятом этаже занимали большую квартиру Шаховские. В нем после революции семье его досталась одна комната. Большое благо, что она с балконом. В открытую дверь его, перед которой сейчас пишу на шифоньерке, целые сутки вливается ток свежего воздуха от садовых верхушек деревьев и от близости Москва-реки. И смотрит сейчас в балконную дверь большой кусок закутанного облаками неба с просвечивающим сквозь них кое-где теплым закатным золотом. Час, восторженно любимый ушедшей в “миры иные” Сольвейг. Слышу в памяти сердца ее свежий и нежный, не по летам молодой голос, каким она призывала меня на угол Головинского переулка, откуда лучше виден закат, чем из ее садика. Слышит ли она, видит ли, помнит ли меня, когда я мысленно сейчас касаюсь ее в глубинах души моей, когда она прислушивается к тем, кто отделен от нее порогом ее смертного часа. И к тому, словами невыразимому, что доносится к нам оттуда.
18 июня. 12 часов дня
Постель под милосердным покровом “тети Ани”. Постельный режим – может быть, следствие сотрясения мозга от ушиба головы, уличным “salto mortale”, вызвавшим новую фазу старческого угасания, признаки которого ощущаются мною и подмечаются окружающими в области памяти, в отвращении к пищевым процессам и в растущем упадке сил.
5-й час дня.
Солнышко и веяние свежего ветра из открытой форточки и балконной двери.
Перемещение на диван с подушками и с книгой Флоренского. “Кладезь премудростей”, – не без иронии сказал о нем Михаил, один из бывших его почитателей, когда остыл к личности самого Флоренского. Если бы не последняя встреча с Марией Федоровной, не приблизилась бы я “духовной жаждою томима” к этому “Кладезю”.