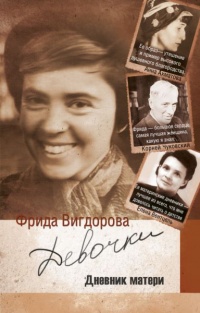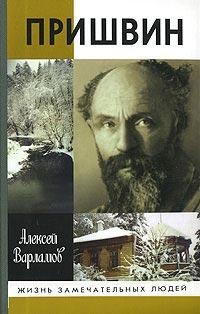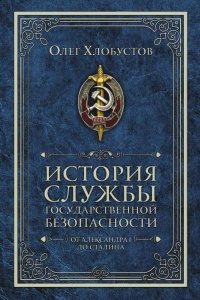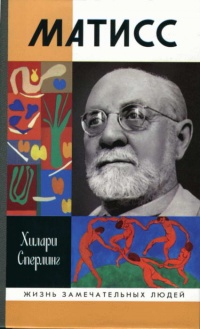Книга Маятник жизни моей... 1930–1954 - Варвара Малахиева-Мирович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Задумалась об этом сейчас, отойдя от телефона после краткого, но значительного для обоих разговора с Евгением Германовичем (целый месяц не слышала его голоса и тяжело и очень сложно пережила его длинные письма).
Его радостный, до вскрика, и такой чудесно-мягкий голос, и слово “дорогая!”, которое он употребляет только в начале писем рядом с именем и отчеством, – правдивость и мужественность и своеобычность его существа повысили тон моей борьбы с гриппом, обогатили охотой выздороветь – хотя бы для того, чтоб повидать его (об этом условились по телефону), послушать тембр его голоса и все особенности речи.
Радость от Валиного голоса или от голоса, взгляда, слова, лица Си Михайловича и еще других близких людей ничуть не меньше – но все оформление этой Радости во мне, ее звучание в моей душе, в высших ее областях и в тех, где ее можно воспринимать в цвете, запахе и даже вкусе, – до чего “свое”, неповторимое, в каждом отдельном случае.
Хочется еще записать сегодняшнюю необычайно заботливую, светящуюся доверчивой (и тоже радостной) улыбкой любовь-заботу к моей старости бедного Оборотня, до слез растрогавшего меня своим видом, движениями, сверхобычной ласковостью в мощном серебре ее контральто.
1.3– 31.3.1952
7 марта
Пришло сейчас известие, что скончалась сегодня бабушка “детей моих”, мать их отца, Михаила – Гизелла Яковлевна Шик. И как всех, опередивших меня переходом из жизни временной во вневременную, чувствую ее не только живою, но причастившейся “Жизни вечной”. Завтра ее восьмидесятишеститилетнюю плоть, которой она сильно тяготилась последние годы, крематорий обратит в пепел, дым и в струи земной атмосферы. Думаю об этом с отрадным чувством за нее: нет больше с ней ее болезни, которая под конец уложила ее в больницу, где и окончился прошлой ночью ее путь на этом свете.
В последнее свидание наше, больше года тому назад, на мой вопрос о ее жизни она ответила: “Что об этом говорить? Это уже не жизнь, а живая могила”. Глухота, еще большая, чем моя, мешала ее общению с людьми, к чему у нее осталась большая потребность. Надо было очень громко и раздельно кричать ей на ухо по одному слову то, что ей хотелось бы от людей слышать. Я хотела написать ей мои вопросы о ее здоровье и обо всем другом – но оказалось, что она читать уже ничего, самыми крупными буквами написанного, не может. Я тогда еще не была так глуха, как теперь, и меня до слез тронул горячей ласковостью ее прием, благодарность “что зашла”, воспоминаниями того немногого, что было мной проявлено в жизни ее внуков и покойной дочери ее, Лиленьки, подготовлявшейся в школу при моем участии. Мир ее душе – “в мире светлом, в месте злачном, в месте покойном”. Аминь.
Хочется еще прибавить к этой страничке о доброте Гизеллы Яковлевны. О том, как легко было, когда я стояла близко к ее семье, тогда живущей богато, обратиться с просьбой о какой-нибудь одежде для людей, ей незнакомых, о которых я ей рассказывала. И как она сама, когда они уже разорились, снабжала, по своей инициативе, меня лично щегольскими ботинками, теплым пальто, зимней шапкой и т. п. И с каким радостно-дружелюбным видом эти дары предлагала.
9 марта. Замоскворечье
Оэлла и Аннабель-Ли в кино смотрят лермонтовский “Маскарад”. И Валя присоединилась к ним. Лисик уже чуть не четвертый раз видит это зрелище. С искренним восхищением и со свойственным ей даром рассказа (творческим даром) посвятила меня в свои впечатления и даже – второй уже раз – заразила желанием приобщиться к тому, что дал ей Лермонтов и киноартисты.
21 марта. Пятницкая. Кров Оэллы
Жалко, что нет сил, чтобы отметить и осветить каждый шаг пройденного за эти дни общего нашего с Лисиком пути. Чтобы и пояснить себе, в чем суть этого ощущения близости (такого редкостного), когда “два сердца бьются, как одно”. Ведь и у нас с ней далеко не всегда бывала эта всесторонняя общность (то есть разделенность и без слов, и со словами) – и внутренних, и даже внешних, житейских восприятий жизни, как в эти дни. И почему-то особое, “потустороннее” моментами приобрели значение, как будто сами по себе принадлежащие сфере “преходящего”. Как, например, забота о прическе и туалете нашей Аннабелочки. В ней есть, кроме Аннабель-Ли, и пушкинская белочка.
И для которой мать, порой и я – те “слуги”, что белку берегут, “служат ей прислугой разной”.
…Или повышенный интерес мой к тому, как процветает искусство выпиливания художественных (по Ватагину) разных игрушечных зверей Оэллиного брата Бориса. Я выбрала из них для себя пантеру и воющего волка, а для нового внука моего, новорожденного Владимира (Ильинского) – удалого, породистого, на всем скаку (первый приз) коня.
Борис из тех, кто разменял крупный фонд рисовального дарования на мелочи (этому содействовала вся “линия жизни его”). Но зато в игрушечной области – выпиливания, – насколько я понимаю, он непревзойденный мастер своего дела.
Третьего дня душевная встреча с Аллой, благодаря Оэлле. Благодаря предложенным ею мне как чтение во время борьбы с подступами гипертонической напасти двум книжкам об Алле в любимых мною ролях ее. И побыла со мной прежней, светлой и взаимно дорогой близости Аллочка, Ай. Алла – ее детство и молодость, Алла моего с ней сопутничества – “словом и делом” и любовью. Алла до ее третьего брака с Прониным.
27–28 марта
Со вчерашнего дня у моего Лисика. Совершила этот переезд по трамваю – под конвоем Шуры. В трамвае была близка к тому состоянию, как в Игоревой машине последний раз – когда и светы небесные, и фонари земные, и крыши домов летели на меня, и шофер, а потом генерал втащили меня на мое ложе, как бесчувственное тело.
Весь вчерашний день прожила на валидоле и в постели, в сумеречном состоянии сознания.
1.4-30.4.1952
1—12 апреля
Двенадцать дней не брала пера в руки, если не считать двух-трех писем. Плохо с головой. Плохое увеличилось от бессильного и бесправного созерцания, как разрушает остатки своего здоровья Ольга хозяйственной толчеей (в балетном головокружительном ритме), и пребыванием в безвоздушном пространстве горячо натопленной комнатушки. Ни брат, ни дочь не имеют ни моральной власти (как и я), ни жизненной возможности упорядочить ее ритм или поместить в стационар, что было бы самое лучшее.
Очень я замучилась душевно и нервно у Лисика за эти дни – хотя были в нашем с ней общении кусочки незаменимо ценного, только с ней переживаемого волшебно воскрешенного общего прошлого. В словах – коротких, обрывистых, в газетный рупор, и в ярких, живописно-талантливых записях ее. Большой будет грех на ее душе, если она не согласится издать их, как советовали ей лица, компетентные в этих вопросах и сами причастные к творчеству в литературе.