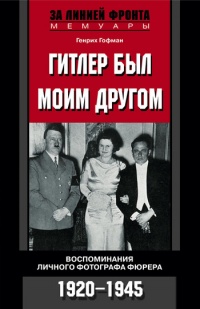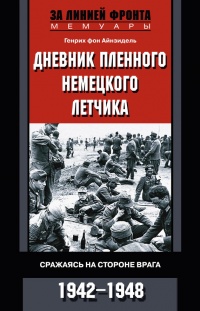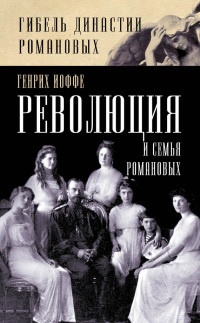Книга Сквозь ад за Гитлера - Генрих Метельман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Настоящий солдат воспринимает конвойную службу как умерщвление сознания и наказание. Кроме того, она наводила ужасающую скуку, и все происходившее во внутренней части этого «колхоза» представлялось мне поначалу странным до дикости. Ключом ко всему, как я понимаю теперь, был пресловутый позорный «приказ о комиссарах» Гитлера, согласно которому все пленные политруки (комиссары) и вообще члены коммунистической партии подлежали расстрелу. Иными словами, для комиссаров вышеупомянутый приказ означал то же самое, что для евреев «окончательное решение».
Мне представляется, что к тому времени большинство из нас считало коммунизм равноценным преступлению, а коммунистов — соответственно преступниками, что, по сути, освобождало от всякой необходимости дальнейшего установления вины. Тогда я смутно догадывался, что охранял лагерь, специально предназначенный для уничтожения коммунистической заразы.
Любой, оказавшийся здесь, в лагере внутри лагеря в качестве пленного, уже не выходил на волю. Не берусь утверждать, что все они знали уготованную им участь. И все же было довольно много таких, кого выдали свои же товарищи и которые оказались здесь, во внутреннем лагере. Несмотря на их клятвенные заверения в том, что, дескать, они никогда не состояли ни в политруках, ни в рядах коммунистической партии, более того, всегда оставались убежденными антикоммунистами, тем не менее их из лагеря не освобождали, даже не возвращали на внешнюю территорию. Повторяю, наши обязанности сводились исключительно к вооруженной охране территории, а всем заправляли здесь представители Sicherheitsdienst[17] или сокращенно СД под командованием штурмбаннфюрера[18] СС. Сначала проводилось откровенно формальное расследование, после него казнь, причем всегда в одном и том же месте — на отшибе у стены полусгоревшей хаты. Место погребения представляло собой несколько длинных рвов, также на отшибе бывшего колхоза.
Меня, пропитанного нацистской пропагандой в школе и в рядах гитлерюгенда, первые контакты с живыми, а не воображаемыми коммунистами поначалу озадачивали. Пленные, ежедневно доставляемые сюда, во внутренний участок лагеря, либо поодиночке, либо мелкими группами, представляли собой самые различные человеческие типы и совсем не такие, какими я их себе представлял. Они на самом деле сильно отличались и от основной массы пленников, тех, кто был сосредоточен во внешнем участке лагеря и кто внешним видом и поведением мало чем отличался от обычных крестьян востока Европы. Что меня больше всего поражало в политруках и членах компартии, так это присущее им достоинство и несомненные признаки образованности. Никогда, или почти никогда, я не видел их в состоянии отчаяния, они никогда не рыдали и ни на что не жаловались. И никогда ни о чем не просили. Когда подходил час казни, а казни происходили постоянно, они шли на эшафот с высоко поднятой головой. Почти все они производили впечатление людей, которым можно довериться, я нисколько не сомневался, что повстречайся я с ними в мирных условиях, я вполне мог подружиться с ними.
Все дни были похожи один на другой. У ворот с той и с другой стороны всегда находился часовой, иногда двое с винтовками на плече. Обычно под охраной находились до десятка или чуть больше «гостей». Содержались они в кое-как убранном и пустовавшем свинарнике, в свою очередь, окруженном колючей проволокой. Это было уже третье кольцо ограждения — тюрьма в тюрьме, находящейся тоже в тюрьме. Охрана была организована так, что Даже малейших шансов на побег у пленных не оставалось, так что нам было особенно нечего волноваться по этому поводу. Поскольку нам приходилось видеть их почти круглые сутки, мы знали их всех не только в лицо, но и по имени. Именно мы конвоировали их Туда, где проводилось «расследование», именно мы и сопровождали до самой стенки, где их расстреливали.
Один из пленных благодаря полученным в школе знаниям кое-как изъяснялся по-немецки. Я уже не припомню его фамилию, но звали его Борис. Поскольку и я примерно в той же степени владел русским, мы без труда общались, обсуждая множество тем. Борис был лейтенантом, политруком, он был на два года старше меня. В разговоре выяснилось, что и он, и я учились на слесаря-железнодорожника, он — в Горловке, я — в Гамбурге. Во время наступления мы проходили через его родную Горловку. Борис был светловолосый, довольно высокий — метр восемьдесят или около того, с веселыми голубыми глазами, в которых даже в условиях плена мелькали озорные искорки. Меня тянуло к нему, хотелось поговорить. Я как-то назвал его Борисом, и он спросил у меня, может ли он тоже называть меня по имени. Мы оба поразились тому, как, оказывается, быстро можно сойтись даже столь разным людям. В основном наши беседы касались наших семей, школы, городов, где родились и где обучались своей профессии. Я знал по именам всех его братьев и сестер, знал, сколько им лет, чем занимались их родители, даже их привычки и то знал. Разумеется, он страшно тревожился за их судьбу — город ведь был оккупирован нами. Разве мог я утешить его? Он даже назвал мне их адрес и попросил меня, если мне доведется быть в Горловке, разыскать их и все рассказать им. «А что, собственно, рассказать?» — задавал я себе вопрос. О чем рассказать? Но мы оба прекрасно понимали, что я разыскивать их не стану, какова бы ни была судьба Бориса. Я тоже немало рассказал ему о своих родителях, о жизни в Германии, словом, обо всем, что мне дорого. Я рассказал ему и о том, что у меня есть девушка, которую я люблю, хотя между нами ничего серьезного не было. Борис понимающе улыбнулся и рассказал, что у него тоже есть девушка, студентка. В такие моменты мне казалось, что разделяющие нас преграды будто исчезли. Хотя нас отделяли друг от друга даже не преграды, а скорее пропасть — он был моим пленником, а я с оружием в руках был призван охранять его. Я ни на минуту не сомневался, что Борису уже никогда не увидеть ни своей девушки, ни родителей, ни братьев, ни сестер, но вот только не мог сказать с определенностью, понимал ли это он. Я понимал, что единственным его преступлением было то, что он военный, и к тому же политрук, и где-то глубоко внутри я не соглашался с такой постановкой вопроса.
Как ни странно, но армейская служба почти не обсуждалась, да, в том, что касалось политики, у нас с ним не было точек соприкосновения, как не было и подобия некоего общего мерила, из которого мы могли бы исходить. Как ни казались мы близки друг другу в общечеловеческом понимании, нас в области идеологии разделяли сотни световых лет.
И вот наступила последняя перед расстрелом ночь. Я узнал от наших сотрудников СД, что завтра утром он должен быть расстрелян. Вечером предыдущего дня его вызвали на допрос, с которого он вернулся избитым, с посиневшим от кровоподтеков лицом. Но он ни на что не жаловался, вообще слова не сказал о том, что ему пришлось пережить на этом «допросе». Да и я предпочитал не расспрашивать. Какой смысл спрашивать об этом? Я не знал, сказали ли ему о том, что произойдет завтрашним утром. Сам я, разумеется, тоже не стал ему ни о чем говорить. Но, будучи человеком достаточно умным, Борис не мог не понимать, что участь его давно решена, и она ничем не отличается от участи его расстрелянных товарищей.