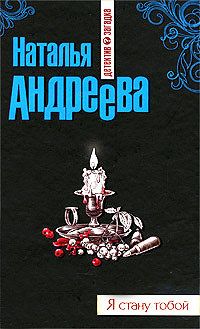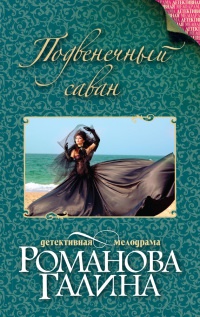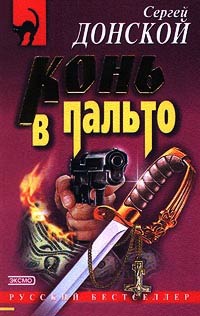Книга Берлинское кольцо - Леонид Николаев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как всегда, я принялся объяснять ему приемы обработки клише, но он отмахнулся от меня:
– К черту!
Это можно было принять за обычное раздражение. С кем из нас не случалось подобное в первые месяцы лагерной жизни – бросишь в сердцах лопату, выругаешься. Настроение такое, что, кажется, поджег бы весь Заксенхаузен, в морду бы плюнул коменданту, или того лучше – размозжил ему голову той же лопатой. Было! Я понимал Исламбека и стал уговаривать – терпи, крепись, а он свое:
– Хватит! Мне эта кислота и ваши цинковые пластины ни к чему…
Сел на табурет и сказал самым серьезным, даже деловым тоном:
– Слушайте, Оскар… Вы можете показать мне Фриденталь?
Я остолбенел. Фриденталь – это линии высокого напряжения, это пулеметы и собаки. Спрашивать, зачем ему понадобился замок, не было смысла. Не ради простого любопытства мой ученик намеревался совершить прогулку по парку и подставить себя под пули часовых. Да что часовых, любой эсэсман имел право разрядить свой пистолет в наши головы.
– Нет, – сказал я. – И не потому, что трушу. Нам не дадут возможности испытать даже собственный страх.
– А рассказать? – спросил Исламбек. – Рассказать вы готовы?
– Да, конечно.
– Уже сегодня, – предупредил он. – У меня очень мало времени.
Я не понял: человек бережет время, которого заключенному дано в избытке. Он догадался о моем недоумении и пояснил:
– Теперь все исчислено днями и даже часами.
Вот почему он так встревожен, подумал я. Ему известны сроки. И даже самые страшные. Неужели кто-то посмел предупредить человека о смерти?
– Хорошо, – согласился я. – Сегодня начнем.
Что я знал? Казалось – все. Даже больше, чем все. Почти с первого дня я находился в Заксенхаузене – мы строили стену Фриденталя и то, что за этой стеной. Но когда пришлось рассказывать, ничего определенного и точного я не мог сообщить. Все догадки и предположения. Кроме денег. Их я делал сам. Готовил клише. А на клише значились фунты стерлингов, кроны, рубли, даже доллары…
Впрочем, фунты стерлингов и доллары Исламбека мало интересовали, вернее сказать, совсем не интересовали.
– Какие-нибудь документы, связанные с английской разведывательной службой, изготавливались? – спросил он.
Этого я не знал. Помню, что приходилось как-то видеть образец печати на пропуск в Пентагон, которую гравировал мой напарник. Были еще бланки на освобождение от военной службы и офицерские удостоверения бронетанковых войск Великобритании. Дали мне однажды вырезать штамп врача лондонского военного госпиталя. Никаких других английских документов я не видел. Возможно, они и копировались здесь где-то или на Дельбрюкштрассе в Берлине. До создания комплекса «Ораниенбург» вся эта работа велась там, и всякие паспорта, справки, пропуска валялись в комнатах отдела технических вспомогательных средств целыми пачками. Бернхард Крюгер организовал дело по фабрикации фальшивок довольно в больших масштабах и лишь по приказу Гиммлера передал его Отто Скорцени. С сорок третьего года, как только мы подняли эту стену, фабрика фальшивок перебазировалась во Фриденталь, а отсюда в последние недели войны образцы клише были тайно вывезены в Альпийскую крепость в Тироль. Там герметически закупоренные контейнеры не то замуровали, не то опустили на дно озера. Хотел бы я посмотреть на клише сейчас. Неужели сохранились и мои работы? Страшно подумать, что тайное оружие еще существует и им кто-то пользуется во вред людям и я не могу дотянуться до него, не могу разрядить.
Еще рассказал я о смертниках. Вы слышали что-нибудь о «человеке-лягушке»? Вижу, что не слышали. Я должен показать вам, где шла подготовка подводных диверсантов.
Оскар Грюнбах снова вооружился тростью и, ставя ее впереди себя, как щуп миноискателя, повел нас по чистому лугу. Он не думал, конечно, о минах, просто черная трость помогала ему держаться увереннее на той земле, что уже давно обезврежена и теперь спокойно нежится в осеннем солнце.
Луг. Чистый луг, без намеков на прошлое, без следов смерти. А здесь, именно здесь, стоял и питал землю человеческим горем Заксенхаузен. Каждый метр заслонялся бараками, навесами, сторожевыми вышками, заслонялся от неба, от ветра и надежды, самой обычной людской надежды на что-то светлое.
Уже осень, глубокая осень, но трава еще не вся поблекла, желтизну разбивают зеленые стрелки, родившиеся не ко времени, обманутые затеплевшим вдруг солнцем. И среди всего этого осеннего покоя, на ровной глади темнеет камень будущего мемориала – напоминание об ужасе и смерти. Камень, в молчании своем способный говорить все. Нам он говорит только о мужестве человеческого сердца, способного биться надеждой, светить в самом глухом мраке. Оскар Грюнбах снимает шляпу, свою мягкую, теплую шляпу, такую же блеклую, как этот сентябрьский день.
Зачем, разве тут могила?
– Боже мой! Боже мой, – шепчет гравер. – Страдание воплощается в искусстве… Я бы этого не сделал. Резец скульптора напомнит о тяжелом, но не передаст ужаса, царившего тут.
Цветы. Свежие цветы, опущенные чьей-то бережной рукой, на камень, еще не принявший форму изваяния. Теплой рукой, возможно касавшейся когда-то в детстве, далеком уже детстве, живого тела, близкого, единственного, отнятого навсегда Заксенхаузеном.
Все-таки могила. А почему не символ мужества? Почему не память об Оскаре Грюнбахе, прошедшем Заксенхаузен не чистым лугом, а тернистой тропой? О многих других, с разными фамилиями, такими разными, что трудно было их произносить коменданту немцу. Поэтому и были заведены номера – номера понятны всем…
– Лучше оставить бараки. Один барак хотя бы, – говорит Грюнбах. – Он все скажет людям…
Потом, когда мы уже миновали камень будущего мемориала и приблизились к берегу Одер-Хафеля, он переменил свою точку зрения.
– Впрочем, на земле не должно быть никаких лагерей смерти, даже их следов… Не надо превращать мир в музей ужаса.
Одер-Хафель, как и все вокруг в эту пору, был светел и прозрачен. И тих. Вода почти не приплескивала к берегу, словно стояла в дремоте. Лишь случайные золотые лоскутки, оброненные вязом, двигались неохотно посреди канала. Они куда-то уплывали. Навстречу зиме…
– Здесь учили людей умирать, – произнес Грюнбах, опускаясь на сухую кромку берега. – Даже поздней осенью, когда приходил холод.
– Это наука?
– Да.
– Ею можно овладеть?
– Вполне. В портах, окруженных минными заграждениями, исключающими возможность появления вражеской подводной лодки, человек-амфибия, или, как его называл Отто Скорцени, «человек-лягушка», выполнял роль целенаправленной мины. В специальной капсуле или просто в скафандре он подплывал к днищу корабля и прикреплял адский заряд. Судно взлетало в воздух. «Лягушек» растили во Фридентале. Тренировали вот у этих сходен. В канал вводили катер или строили импровизированную стенку причала. Смертники прыгали прямо с катера в воду, подплывали невидимо и неслышно к цели. Это были здоровые молодые люди, хорошие пловцы. Я видел несколько раз, как их отправляли из замка. Улыбок на лицах не замечал: наверное, они догадывались, что из-под воды им не удастся выбраться, хотя инструкторы и гарантировали полную безопасность диверсионной операции. Здесь, в канале, «лягушки» работали с макетами мин, в море людей прикрепляли к настоящим минам с мгновенным автоматическим включением взрывателя. Диверсант не успевал отплыть от корабля и погибал вместе с ним…