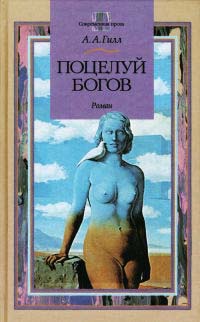Книга Делай, что хочешь - Елена Иваницкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оказалось, венчаться она не намерена. Я знал, что они с доктором атеисты, и сам был не больно-то верующий, но тут как-то не задумывался про убеждения: если такой порядок… ну, считал, и мы общим порядком. А она так не считала. Я убеждения уважал, но испугался: «А если нас разлучат по приговору?» Мы сидели все вчетвером и обсуждали. Доктор за столом, тетка в уголке в кресле, все пыталась первое время в уголок забиться, а мы рядышком на черном казенном диване, она мне голову на плечо положила и смеется: «Пусть попробуют». А доктор говорит: «Конституция провозглашает свободу совести. Обязательность церковного брака входит в противоречие с конституцией. Подадим встречный иск и выиграем процесс. И непременно еще один – против поражения в правах внебрачных детей. У нас не диктатура, а свободная республика».
Я удивился, что свою жизнь можно, оказывается, соотносить с конституцией и настаивать на личных убеждениях даже против государства. Сам-то я, если выговаривать словами, от государства всегда уклонялся, а самое последнее убеждение, за которое держался бы в крайности, – это чтобы гадостей не делать. А все остальное, думал, – ладно уж.
У меня что-то такое в уме промелькнуло, а сказалось неожиданно совсем другое: «Но ведь с твоим первым мужем ты же…» Она смотрит на меня удивленно: «Конечно, нет, говорит, у нас был такой же свободный союз, как с тобой». Свободный союз. Чувствую, обиделась. «Тем более при диктатуре, когда приходилось скрывать все, что только можно было скрыть» Меня прямо горе охватило. Ведь получилось, будто я ей не доверяю. Она так головой встряхнула, словно отогнала какие-то мысли, и опять улыбнулась: «Это мы еще плохо друг друга знаем. Ничего, познакомимся. Подружимся!»
Потом, вспоминая эти дни, пересматривая, увидел, как ласково и настойчиво она со мной дружилась…
Вместе ходили по городу. Она говорила, что вдвоем стало лучше видно. И порассказать могли: она по зодчеству, я по строительству. Или вот еще – гитара. «И меня, говорит, научи». А я как-то само собой умел и не помнил, как выучился. «Вы покажите, просит, я тоже само собой разберусь». Ей же все давалось! Заиграла как по волшебству, еще и переложила для гитары свои любимые песни.
О ее первом муже я все правильно понимал. Не сомневался, что достойнейший был человек. Уважать его память – так всей душой и с готовностью. Она иногда рассказывала чуть-чуть. Но я видел, что тут больное место, страшно вспоминать. Понимал, каково это – найти любимого человека в яме с расстрелянными. Но почувствовать не позволял себе. Чтобы почувствовать, мне надо было бы ее представить в этой яме. Это не мог. Это уж слишком.
Она была такая светящаяся, серебряная, от природы задуманная вся целиком из чистого вещества радости. А тут такое, что не забудешь и не примиришься.
Работы ее мужа почти все погибли. Когда его забирали, то разгромили мастерскую. Был приказ нагонять страху. Осталась только одна картина и папка с рисунками, которых в мастерской на ту минуту не оказалось. Эту папку мне доктор показывал. Рисунки – жуткие сказки, ночной кошмар. Река, запруженная зелеными трупами. Пиршество людоедов, свежующих иссохшего человека. Сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными. Огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети. Я вполне понимал, о чем это. О страхе, арестах, о терроре, о нашей крепости. Немножко» по-детски… Да ведь ему и было двадцать лет.
Но вздрогнул от последнего рисунка – ее портрет. Акварельный. Измятый, надорванный. И отпечаток сапога.
Мы были вдвоем. Солнце в комнате. Закат. Она подошла сзади, обняла меня и смотрит на рисунок из-за плеча. И говорит: «Что ты видишь?» – «Тебя», – отвечаю, – «Ты думаешь, это я?» – «А кто же? Я тебя узнаю. Разве не ты?» – «Написано с меня, но не знаю, кто это. Расскажи». Странно, сам спросил и сам стал рассказывать.
Улица. Высокие дома. Впереди перекресток. Но нечетко. Как, например, от солнца глаза слезятся. Или просто не докончено. Город такой непонятный. Можно узнать Корабельный проспект и Платановый бульвар, но ведь на самом деле они не пересекаются. Совсем раннее утро. Бьют косые лучи, лежат длинные тени. И женщина в черном платье, очень коротком, разве что до колен. Почему-то босиком. Шла или бежала, но приостановилась и вот сейчас оглянется. Рука, отнесенная слегка назад, висок, линия щеки, мимолетное усилие шеи в сторону поворота. Если все вокруг словно расплывается, то женская фигура написана очень осязательно, поэтому нельзя ошибиться. Она оборачивается. Может быть, кто-то окликнул. Но никого нет. Кроме нас. Значит, она оборачивается к нам. Правда же?
«А это, спрашивает, не смерть?» – «Конечно, нет. Она оглянется, и все увидят твое лицо», – «Но кто это?»
Тут меня осенило. «Это сама столица и есть. Это ее душа. Которую обычно никто не видит. Только нарисовано наоборот: душу лучше видно».
Хотел на нее взглянуть, но она крепко меня обхватила и не позволяла повернуться. Чувствую, провела щекой по рукаву. Все до дна прозрачно. Она же присмотрелась к этой картине и уже не видела, а я разбередил, вновь разглядела, плачет. Чего же тут не понимать?
Не было у нас никаких размолвок и недоумений. Правда, о свободе однажды поспорили. Они вечно с доктором на два голоса: свобода да свобода. Что-то меня царапало. Говорю: «А вот я не свободен. От тебя завишу. А ты от меня нет?» – «И я от тебя, отвечает. Значит, мы свободны вместе». А я закусил удила: «Красиво сказано, говорю, но если ты захочешь от меня уйти, мы не будем свободны вместе. Как тогда ты поступишь?» Неприятно так сказал. Она вдруг улыбается: «Точно так же, как и ты, если ты захочешь уйти от меня» – «Нет, кричу, ни за что с тобой не расстанусь!» Она головой качает: «Тебе воображается, будто меня отнимают или тебя принуждают уйти, а ты кричишь: «Ни за что!» – А ты представь, что сам хочешь расстаться». Я так пылко начал: «Это никак невозможно…», но вдруг все слова проглотил: увидел, как прошел мимо ужасно опасного поворота и не заметил. Подумал: что было бы, если бы моя подруга, моя первая жена сама меня не оставила? Если бы она надеялась прожить жизнь со мной? Что бы я тогда делал? Молчу, ничего выговорить не могу, даже покраснел. А она лукаво так смотрит. «Что ты, говорит, вообразил? Признавайся». Я и признался. А она серьезно, грустно говорит: «Наверное, ты бы все-таки расстался. Но тогда у нас бы не было так чисто и хорошо».
А другой раз спрашивает, хочу ли я ребенка. Я весь расцвел: «Дочку, говорю, похожую на тебя». Думал, сейчас и услышу радостное известие. А она говорит, что тоже хочет, но боится. Жизнь слишком страшная, чтобы приводить в нее младенчика и обрекать всему этому. Стал переубеждать. Тут родители вмешались. Мы же не скрывались, не секретничали. Тетка поет: «Только и мечтаю, пылинке не дам упасть, вон нас сколько, защитим». Доктор – чуть не стихами: «Дети – это доверие жизни к самой себе. Вечность – это ребенок, играющий в камешки на берегу моря. Отказываться от ребенка – отказываться от доверия и вечности».
А дите оказалось похоже на меня! Но когда принесли вот такусенький сверточек, меньше нашего кота, головенка рыженькая, вот тут меня проняло. Испугался. Нас-то много, а защитим ли – неизвестно. Но она, когда решилась, вроде бы перестала бояться. Из лазарета уволилась, поступила в женский медицинский институт, держать экзамен на детского врача, для фельдшериц с опытом как раз открылись двухгодичные курсы. Мы, как вспомню, много работали, но все успевали. Она малышку сама кормила. Как-то и то, и другое получалось: и малышка, и курсы. С теткиной помощью, конечно. Детишек своих тетка передала помощнице: поработала, говорит, для общества, теперь только внучкой хочу заниматься. Такая полная была жизнь. Хорошая.