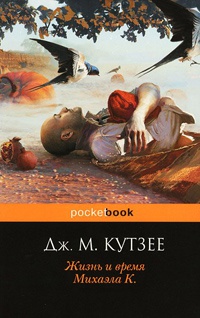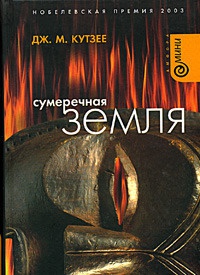Книга Бесчестье - Джозеф Максвелл Кутзее
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Утро. Бев Шоу подает ему завтрак, состоящий из кукурузных хлопьев и чая, и скрывается в комнате Люси.
— Как она? — спрашивает он, когда Бев возвращается.
В ответ Бев лишь слегка качает головой. Не ваше это дело, видно, хочет сказать она. Менструации, роды, изнасилование и то, что за ним, все, замешенное на крови, суть бремя женщины, ее сокровенная тайна.
Уже не в первый раз он задается вопросом: не счастливее были бы женщины, живи они в женских общинах и принимая мужчин только по собственному выбору. Возможно, он ошибается, считая Люси лесбиянкой. Возможно, она просто предпочитает общество женщин. А возможно, в этом и состоит определение лесбиянки: женщина, которой не требуются мужчины.
Неудивительно, что они — Люси и Хелен — относятся к изнасилованию с таким ярым отвращением. Изнасилование, бог хаоса и смешения, осквернитель уединения. Изнасилование же лесбиянки хуже изнасилования девственницы — удар получается куда более чувствительным. Знали ли они, эти трое, с кем имеют дело? Ходили ль уже вокруг разговоры?
В девять, после того как Билл Шоу уходит на работу, он стучится в дверь Люси. Дочь лежит, повернувшись лицом к стене. Он садится с ней рядом, прикасается к ее щеке. Щека мокра от слез.
— Нелегко говорить о таких вещах, — произносит он, — но повидалась ли ты с врачом?
Люси садится, сморкается.
— Я была вчера вечером у терапевта.
— И он позаботился обо всех возможных последствиях?
— Она, — говорит Люси, — она, а не он. Нет, — в ее голосе вдруг проступает гнев, — да и как бы ей это удалось? Как может врач позаботиться обо всех последствиях? Ты все-таки думай, что говоришь!
Он встает. Если ей угодно злиться, то и он это тоже умеет.
— Прости, что спросил, — говорит он. — Какие у нас планы на сегодня?
— Планы? Вернуться на ферму и навести там порядок.
— А потом?
— А потом жить по-прежнему.
— На ферме?
— Разумеется. На ферме.
— Люси, будь благоразумна. Все изменилось. Мы не можем просто начать с того места, на котором нас остановили.
— Это почему же?
— Потому что это нелепая идея. И потому, что там небезопасно.
— Безопасно там никогда не было. И это не идея, нелепая или умная. Я возвращаюсь туда не ради идеи. Просто возвращаюсь.
Сидя на кровати в чужой ночной рубашке, она бросает ему вызов — шея выпрямлена, глаза блестят. Уже не папина девочка, уже больше нет.
Прежде чем уехать, приходится переменить повязки. В тесной маленькой ванной Бев Шоу разматывает бинты. Веко по-прежнему закрывает глаз, на голове вздулись волдыри, но в общем и целом могло быть и хуже. Самое болезненное место — это кромка правого уха, единственное, как сказала молоденькая докторша, что обгорело по-настоящему.
Бев стерильным раствором обмывает вылезшую наружу розовую подкожную ткань, затем с помощью пинцета накладывает поверх нее желтоватую маслянистую повязку. Мягкими касаниями смазывает складки века и ухо. Работает она молча. Он вспоминает клинику, козла и гадает, ощущал ли тот, отдаваясь в ее руки, такой же мир и покой.
— Ну вот, — наконец произносит она, выпрямляясь.
Он разглядывает себя в зеркале — аккуратная белая шапочка, закрытый бинтом глаз.
— Полный порядок, — говорит он, но думает при этом: «Вылитая мумия».
Он еще раз пытается поговорить об изнасиловании.
— Люси сказала, что побывала вчера вечером у терапевта.
— Да.
— Существует риск беременности, — торопливо продолжает он. — Риск венерического заболевания. Риск СПИДа. Разве ей не стоит повидаться и с гинекологом?
Бев неуклюже пытается уклониться от разговора.
— Это вы у самой Люси спросите.
— Я спрашивал. Но не добился никакого толка.
— Спросите еще раз.
Уже двенадцатый час, а Люси все еще не вышла. Он бесцельно слоняется по саду. Настроение у него сумрачное. Дело не только в том, что он не знает, чем себя занять. Вчерашние события глубоко потрясли его. Дрожь, слабость — это лишь первые, поверхностные признаки потрясения. У него такое чувство, что зашиблен, подбит какой-то его внутренний, жизненно важный орган — может быть, сердце. Впервые ощущает он вкус того, на что это похоже — быть стариком, человеком, усталым до мозга костей, без надежд, без желаний, равнодушным к будущему. Сгорбясь на пластмассовом стуле, торчащем среди зловонных куриных перьев и гниющих яблок, он ощущает, как интерес к миру капля за каплей истекает из него. Пройдут, возможно, недели, возможно, месяцы, прежде чем интерес этот иссякнет, пока же капли сочатся не переставая, и когда все кончится, он станет похожим на застрявшую в паутине мушиную оболочку, ломкую, легкую, как рисовая шелуха, дунь — и ее нет. Ждать помощи от Люси не приходится. Терпеливо, безмолвно Люси должна сама отыскивать для себя дорогу из тьмы к свету. Пока же она не придет в себя, ответственность за их повседневную жизнь лежит на нем. Но все произошло слишком быстро. К этой ноше он не готов: ферма, огород, псарня. Будущее Люси, его будущее, будущее страны — все это ерунда, хочется сказать ему; пусть катятся к чертям собачьим, мне наплевать. Что до нагрянувших к ним мужчин, то он желает им всяческих бед, а больше и думать о них не хочет.
Это просто последствия, последствия нападения, говорит он себе. Со временем организм справится с ними, и я, призрак, поселившийся в нем, снова стану тем, кем был. Но правда выглядит совершенно иначе, и он это знает. Наслаждение, которое доставляла ему жизнь, уничтожено. Подобно листку в потоке, подобно грибу-дождевику на ветру, он поплыл, покатил к своему концу. Он видит это более чем отчетливо, и видение наполняет его (слово не желает никуда уходить) отчаянием. Кровь жизни источается из тела, и место ее занимает отчаяние, подобное газу — без запаха, без вкуса, без способности хоть чем-то его напитать. Ты вдыхаешь этот газ, члены твои расслабляются, и тебя уже ничто не заботит, даже в миг, когда горла твоего касается сталь.
Звонок в дверь: двое молодых полицейских в чистеньких новых мундирах, пришедших, чтобы начать расследование. Люси выходит из своей комнаты, вид у нее измученный, на ней та же одежда, что вчера. От завтрака она отказывается. Бев в своем фургончике отвозит его и Люси на ферму, полицейские едут следом.
Тела собак так и валяются по вольерам. Бульдожиха Кэти не сбежала, в какой-то момент они видят ее крадущейся вдоль конюшен, но к ним она не подходит. Петраса по-прежнему нет и в помине.
Войдя в дом, полицейские снимают фуражки, суют их под мышки. Он не принимает участия в разговоре, предоставляя Люси рассказать полицейским то, что она считает нужным рассказать. Полицейские уважительно слушают, один из них записывает каждое слово, ручка, нервно рыскает по страницам записной книжки. Они принадлежат к ее поколению и все же держатся от нее на расстоянии, как от существа оскверненного, способного и их запятнать своей скверной.