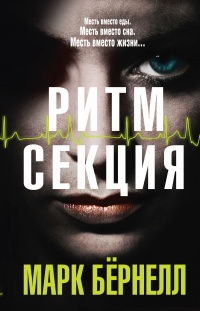Книга Цвингер - Елена Костюкович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…Пока Лёдик то напивался, то трезвел, то садился писать, то снова вскакивал, пока надеялись прочувствоваться, успокоиться и окрепнуть, устраивались, можно сказать, по-серьезному, ерзали задами и обминали купленный диван, — грянул майский день, в который Лёдик был найден скрюченным на полу с обугленными руками. Нашли его соседи, чинившие замыкание, перед самым приходом Вики. Через чье-то плечо он вытянувшись глянул — и увидел труп на полу.
Антенна имела нарезной разъем, разъем не лез в сеть. Лёдику же какую-то передачу приспичило улавливать. Старым казацким способом он разломал штепсель и ввел контакты в розетку просто так. В розетку, да не в ту! Не в радиогнездо, а в электрическое. Включил приемник и взял антенну за усы. Антенна оказалась под напряжением, вместе с ней Лёдик.
Молодой здоровый человек перенес бы удар, но пропитое сердце не выдержало. Продолжая сжимать в ладонях — они обуглились — штыри антенны, Плетнёв упал. Набежавшие парижские знакомцы толковали: ну и ну. Напоминало убийство. Да и грубо подстроенное к тому же.
Вика, так и не прочитавший обещанную повестушку, в месяц шестнадцатилетия оказался одиноким как перст сиротой при угрюмом отчиме. В квартире Лёдика бумаг не нашлось, кроме трех адресных книжек. Следователь их взял, а когда закрыли дело — отдал Ульриху, и эти книжки до сих пор лежат в Аванше в Викторовом столе.
Что было делать Вике после смерти мамы, дедушки, Лёдика? Ехать обратно в Киев к бабуле, Лиоре? Вика рвался как раз. Не мог даже вообразить, каково ей, потерявшей в один и тот же год дочь и мужа. Она написала: «Викочка, если можешь…» Но железобетонный отчим лег трупом, стал стеной. Он не усомнился бы и запереть Вику. Да не в светлой квартире, а в бункерного типа подвале.
— Ты ей горе не скрасишь. Мы со временем перевезем ее сюда. Учиться будешь на Западе. Сказано, точка. У тебя и гражданство, и вообще не будем об этом говорить.
— Никогда ты никого не любил, Ульрих.
— Ну какая ты свинья. Все равно не пущу. Пойди и поразмысли над своими словами.
Вика свернулся калачом в глубоком кресле. Идти в посольство СССР и просить защиты? Ну, этого-то Вика даже и в шестнадцать лет не отчебучил бы. Отчим, как он уже тогда понимал, прав, не позволяя ему вернуться в зону досягания гэбушных злодеев. Тех самых, которые, как Ульрих был уверен, сгубили Лёдика, а перед этим — Люкочку, Викину маму, неизбывную, единственную в жизни Ульриха страсть. И, естественно, довели до гибели несчастного Симу.
А Лиоре отказали в выезде в Швейцарию девять раз. Стало ясно: в инстанциях какие-то мстительные сволочи издеваются над ними. Ульрих писал запросы и жалобы — зряшный труд. Вика усыновлен, Лючии нет в живых: формально воссоединение семейства невозможно.
Лера так и оставалась в уголке сердца. Облик ее таял. Все труднее было вспомнить, какая она. Вспоминалось отрывочное: как она ведет его за руку по Крещатику, как вытряхивает иголки из приспособленной к новому употреблению серебряной мезузы и просит заправить в ушко нитку:
— Расплывается все вблизи, к окулисту, да. Ты, Викуша, счастливчик. Близорукий, будешь четко видеть близкие вещи, даже, даст бог, в зрелые годы.
Даже Викину подслеповатость бабуля нахваливала, с ума сойти.
А вот еще виденье: Лера с крепкими мужскими ругательствами лупит комаров полотенцем на даче, прыгая со стула на кровать. А на кровати, под подушкой и одеялом, в глубине перин закопался восьмилетний Виктор с «Королевой Марго» и фонариком. И она ему на спину с размаху! Вопль! Ну, тут хохот и ругательства просто грянули водопадом!
Или как тоже на даче Лера со своей неразлучной «Спидолой» упрямо тычет антенну в окно (по «Немецкой волне» читают каждый день главу «Подвига»), хотя гроза и все ее умоляют поберечься. Вике семь, он тоже не согласен выключать радио, интересно же. Так что бабулино упрямство совершенно ему по нутру. Еще пять минут засасывающего текста, и вдруг действительно в антенну всасывается молния, но чудом уходит в землю сквозь ножки металлической кровати, не зацепив ни Леру, ни Викочку. Чтение Набокова, к великой обоих печали, обрывается одновременно с существованием «Спидолы».
Вике привелось вспомнить это бабулино чудо, когда он увидел на полу останки испепеленного током Ледика Плетнёва.
После плетнёвской смерти — когда просвистел над мальчиком второй по очереди снаряд — Ульрих, как мог, мытьем и катаньем достиг консенсуса, сорвал Вику из парижского лицея, уложили в два счета чемоданы, ящики с книгами, на прокатной машине умчались из Парижа в швейцарскую глушь, ну, не совсем в деревню, а в городок, и даже с римской ареной. В родной Ульрихов Аванш. И там Ульрих упрятал Вику в богом забытой провинциальной школе, переписав для верности на свою фамилию. Советский подданный, парижский мальчик Вика преобразился в швейцарца Зимана. Прекратил быть Жалусским Виктором Семеновичем, как был записан, в угоду ханжеской советской морали, сыном собственного деда, когда Люкочка вдруг без каких бы то ни было объяснений в мае пятьдесят восьмого принесла это нежданное, обожаемое всеми дитя.
Для Вики корректировка формального статуса значила только замену одного фиктивного отца на другого.
Ульрих ломал голову, как бы его облагодетельствовать. Он просто не смог бы жить без пасынка. Вика был портретом его души, его Люки, невероятно на мать похожим. С тем же голосом, с той же южнорусской мелодикой, в первые годы — и с акцентом, как Люкин. Виктор, исхудавший, почерневший, еле живой в тот год, был так приближен к Люке, будто стал Люкиным на воздухе оттиском. И, в точности как Люка, безотрывно читал.
Сейчас, подумаешь, стрелялки, триллеры, интернет, сколько мертвецов видит в день средний подросток. А Вика видел мертвым только Лёдика. Маму не показали, деда не хоронил. Но Лёдика, вытянувшегося на полу, хватило для травмы. Снились ночами мертвецы. Вика с тех пор жутко боялся смертных масок, очучеленных животных. Воображение искало мучительные вещи и делало их большими. Чтение заполняло дни и часть ночей. Спать было страшно и некогда. Тогда-то Виктор настрополился читать и немножечко спать одновременно: то замирая, то распахивая глаза. Внутри головы ползали мурашки. Чернело и пощипывало под веками, и, внезапно корректируя близорукое зрение до единицы, выкатывались от рези и щипоты несоленые слезы.
Из чистой лояльности к Ульриху Виктор учился замечательно и поступил, как планировали, в университет. Ульрих-то не кончил высшего заведения. Теперь он жаждал реванша. Виктор, конечно, был гуманитарный. Притом чем дальше, тем больше интересовался политологией. Ульрих мрачно мычал: иди в академическую науку! В науку иди. В историю или лингвистику. Чему тебя на политологии научат? Мерзости одной, про войну. Политика — вечные войны: опиумные, странные, холодные…
Про войну как метод и художество Зиман знал все подробности. Еще бы ему не знать. Не на войну ли Ульрих Зиман, высококвалифицированный дешифровщик, проработал восемь лет? Не из-за нее ли насиделся в лагерях с сорок пятого по пятьдесят пятый, по полной программе?
Сошлись тогда: бакалавриат будет по филологии. И уж использовать природную фору по сравнению с местными, натужно зубрившими: баба, бояр, верста, водка, воевода. В Женеву, на русистику, к Маркишу и Нива. А докторантура, коли Виктору не перехочется, пусть будет по чему угодно.