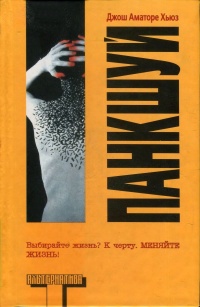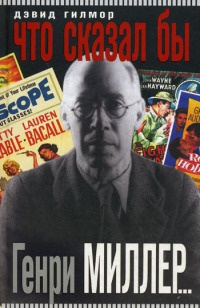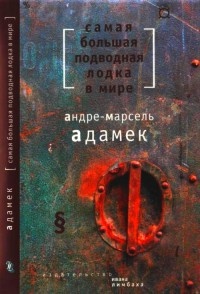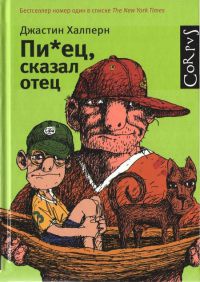Книга Стыдные подвиги - Андрей Рубанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И только одну старенькую бабушку удается встретить мне в потоке прохожих — бабушка не ругается, не толкается, не швыряет мусор, не ведет себя вызывающе, а смотрит на мир добрыми глазами и кивает в такт каким-то своим мыслям, и на ногах ее — ярко-красные чиненые носки и маленькие сандалики; неужели и она в розыске? — с ужасом думаю я и совсем теряюсь, не в силах постичь всей сложности мира.
Трижды объезжаю вокруг дома в поисках парковки. Нужна не просто парковка, а место, разрешенное законом. Вижу хороший просвет, но пока подруливаю, туда уже влезает помятый рыдван под управлением седого дяди в майке, открывающей голые волосатые плечи, — есть такие дяди, очень шустрые, несмотря на преклонный возраст, они не уважают себя и поэтому не ждут, что их начнут уважать другие; черт его знает, может, так тоже правильно. Я бы попенял седому дяде за его бесцеремонность, дядя поступил некрасиво: рванул наперерез мне, — но я улыбаюсь. И понимаю, что не заставляю себя улыбаться, что губы мои раздвигаются соврешенно искренне. Именно такие седые, волосатые, истеричные пенсионеры очень любят бегать в органы правопорядка, сочинять заявления, сутяжничать, мелко мстить. Стукаческая косточка, плюнуть в чужой суп — великое наслаждение. И я улыбаюсь. Нет проблем, уважаемый. Ты тут живешь, а я только арендую офис. Ты местный, а я гость, интервент, ненавидимый всеми «новый русский».
Оставляю машину на обочине, предварительно убедившись, что запрещающих знаков нет. Запрещающие знаки есть на противоположной стороне дороги, и там, прямо под знаком, стоит маленькая серая машинка с треснувшим стеклом левой фары и пятнами ржавчины на бампере. Между мной и серой машинкой проезжает оранжевый агрегат, поливающий мостовую, я успеваю спастись, забежав за чахлый куст, тугие струи гонят по серому полотну мостовой разноцветную дрянь, прохладная водяная взвесь оседает на лице, а потом над асфальтом расцветает небольшая радуга, так близко, что ее, кажется, можно потрогать. Я улыбаюсь, я счастлив. А из неприметной серой машинки выходят двое и идут в мою сторону. Я не успеваю рассмотреть их лиц, мне все понятно; внешность незнакомцев не оседает в сознании. Только то, что оба — невысокие, в поношенных куртках, с усталыми лицами.
Они меня нашли, они идут ко мне, они пришли за мной.
Я провел в бегах немногим более месяца. Бабла было немеряно, но откупиться не получилось. Взяли почти всех, кто со мной работал. Толю Далидовича тоже взяли, и на допросах он не молчал. Я потом читал его показания. Впрочем, обижаться глупо. Злые языки говорили, что именно он меня сдал. Сообщил адрес. Но злые языки всегда что-то говорят; а сам я не выяснял. Я не помню, говорил ли я ему адрес. Толя или не Толя, какая разница. Во-первых, мы были не пионеры-герои, спасающие от врагов отчизну, а всего лишь дерзкие дураки, потерявшие голову от того, что бабла немеряно. А во-вторых, кто я такой, чтоб судить людей? Отделять плохих от хороших?
Были времена, я мог что-то присвоить, но такого морального права — судить людей — никогда не присваивал и не присвою. Не смогу.
В шесть утра в камере ломали гада.
Еще вчера он не был гадом. Обыкновенный криминальный балбес, уроженец Дагестана, лезгин или аварец. Едва войдя, объявил, что на свободе вел бродяжной образ жизни и в тюрьме хочет иметь со стороны арестантского сообщества положенное уважение. В ответ ему сказали, что только время покажет, какого именно уважения достоин всякий человек, и забыли про него.
Плотный, спокойный, по-своему неглупый. Впрочем, для тюрьмы этого мало. Еще нужна осторожность, обыкновенное здравомыслие. Попал в тюрьму — молчи и слушай, вылетит лишнее слово — пожалеешь. Этот не молчал. Вошел в пять вечера, а в семь уже прибился к кому-то, уже чифирил с кем-то, уже курил чьи-то сигареты и рассказывал о безбедной и беспечной вольной жизни.
В половине восьмого один из тех, с кем чифирил и чьи сигареты курил, — грузин Шота — пересек камеру и пришел под самую решку, к смотрящему Евсею.
— Ситуация… — шепотом произнес Шота. — Этот… Который дагестанец… Он совсем дурак. Он сказал такое, чего нельзя говорить. Все слышали. Если б он только мне сказал, я бы его остановил, клянусь мамой. Зажал бы ему рот рукой. Но он всем сказал.
— Что сказал?
Шота печально покачал головой.
— Сказал, что на воров ему положить. Он сам по себе. Вор не вор — какая разница. Так он сказал.
Евсей сузил глаза, произнес почти беззвучно:
— Очевидцы есть?
Шота несколько раз кивнул.
— Я ж говорю, все слышали… Есть очевидцы, конечно. Хромой, и Туркмен, и Байкер, и Сиплый, и еще люди…
— Ага. Зови тогда их сюда. Только тихо. Этого дагестанца не зови. Зови только очевидцев. Иди.
Коротко и тихо поговорив с каждым из семерых очевидцев, смотрящий подозвал близких: сидевшего за героин маленького татарина Рому Толкового и сидевшего за разбой Гришу Покера.
— Что делать будем?
— Отпишем, — сказал Толковый.
— Это понятно. Но кому? Сразу вору или смотрящему за централом?
— Не надо смотрящему, — сказал Покер. — Это чисто воровская тема. Сразу поставим в курс вора и подождем ответа.
Написали тут же короткую ксиву и поспешно отправили по дороге, чтоб успеть до вечерней поверки.
Евсей сделался мрачен. Он был квартирный вор, вдобавок — верующий, трижды в день молился. Он не любил насилия. За год при нем в камере появилось только двое опущенных. Первый, едва переступив порог, признался, что снимал детскую порнографию по заказу каких-то датчан или шведов, за что и взят ментами. Сам полез под шконку. Со вторым получилось хуже: совсем мальчишка, взятый за героин, вдруг зачем-то рассказал соседям, как доставлял своей девушке оральное удовольствие. По понятиям пришлось опустить дурака. Впрочем, никто до него не домогался, а спустя несколько дней наркомана выдернули с вещами.
По обязанностям смотрящего Евсей коротко говорил с каждым, кто входил в хату, и, если видел перед собой молодого наивного новичка, обычно спрашивал вскользь: «Надеюсь, ты на воле всякими гадостями не занимался? Женщину между ног не лизал? И к проституции не имел отношения? А то ведь за такое здесь сразу под шконку определяют, имей в виду…» Обычно после таких слов новичок сразу мрачнел, но на Евсея смотрел благодарно.
Многие, знал Евсей, теперь доставляют своим бабам удовольствие языком, и если разобраться — половину хаты надо под шконку загнать.
Сутенеров тоже много заезжает, особенно тех, кто крышует это дело. А ведь если ты получаешь с проституции — значит, продаешь женский половой орган, правильно? А если ты продаешь женский половой орган — значит, он у тебя есть. А если у тебя есть женский половой орган, стало быть, ты вообще не мужик, логично?
Евсей пришел к Богу здесь, в тюрьме. Как все новообращенные, он был очень строг в своей вере и даже в мыслях не позволял себе ругаться матом. С окружающими, наоборот, старался обращаться мягко, ибо прощать — великое благо, которому следует день и ночь учиться у Бога и Его Сына.