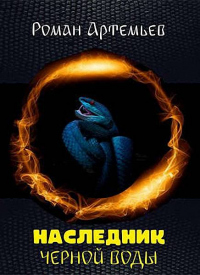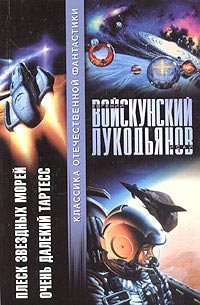Книга Зеркало воды - Софья Ролдугина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Согласны со мной, госпожа Матушка?
На него насмешливо поглядела привлекательная русоволосая дама с высокой прической, в модном парижском платье, открывавшем плечи в россыпях веснушек. Она томно улыбнулась, звякнув серьгами, повернулась к сидящему рядом господину:
– Это вам надо господина Калугу спросить. От него ничто не скроется. Верно, душа моя?
Все посмотрели на ее соседа. Г-н Калуга, растрепанный, в круглых очках-велосипеде, задумчиво бросал между коленей некий округлый предмет, всякий раз с жужжанием возвращавшийся в его пальцы по тоненькой леске. Он будто и не слушал товарищей.
На миг прекратив свое занятие, обвел присутствующих скучающим взглядом:
– Что-с? Я, знаете ли, неважно слышу.
Тут все, включая самого Калугу, даже вампирически-бледный Драже, даже хмурый Обоз, рассмеялись. Очевидно, это была одна из старинных шуток, имеющих хождение только в очень узком кругу.
– А что, господа, говорит на сей счет Зеркало? – посерьезнев, спросил Калуга. – Кстати, где он сам?
– Отбыл в войска, стариной тряхнуть решил, – криво ухмыльнулся Снегирь. – В кой-век опередил меня.
– Не перестаю удивляться, – вздохнула Матушка. – Нашли из чего соревнование устроить. Вы, господа, порой ведете себя, как мальчишки!
– Итак, революция неизбежна, – продолжал Поэт. – Ситуация как никогда требует нашего вмешательства.
– Что вы собираетесь делать? – Снегирь затянулся сигарой. – И что решили с тем пройдохой, как его бишь, такой, с лысиной? Уланов?
– Ульянов, – прошипел Драже. – Вопрос решается.
Из глубин особняка послышались звон колокольчика, лязг засова, скрип паркета и негромкие голоса. Затем в высокие двери трижды постучали.
– Да-да! – громко провозгласил Поэт. – Входите, господа, ждем вас!
В библиотеку вошли трое.
Первый был в длинном пальто-«дастере» и котелке, светло-серых, цвета золы в русской печке. Бряцая шпорами, шелестя полами, он вышел вперед, прищурил холодные голубые глаза. Приложив к губам серебристую гармошку, извлек из нее короткие такты (вой ветра, гудок паровоза в калифорнийской прерии, перестук бизоньих копыт).
Второй тоже побрякивал шпорами. Как и у первого, у него были аккуратные усы и острая бородка. Шляпа и дастер – черней печной сажи, а глаза скрывали темные стекла очков. Он поставил на паркет грузно хрустнувший, звякнувший докторский саквояж.
– Господин Рыбак! – прищурился Поэт. – Господин Шутник!
– Люблю этих парней, – промурлыкал Драже. – В них есть стиль.
Рыбак (зола) и Шутник (сажа) в знак приветствия приложили затянутые перчаточной кожей (серой и черной соответственно) пальцы к полям шляп.
Третий из вошедших еще не имел чести быть представленным Собранию. Это был очень загорелый человек средних лет, в темном костюме и узком галстуке. В петлицу пиджака у него была вставлена пурпурного оттенка лилия. Незнакомец с достоинством наклонил голову, обозначая поклон.
– Господа, – Рыбак повернулся к незнакомцу. – Перед вами тот, кого мы так долго искали.
– Тот, господа, – добавил Шутник. – У кого есть Решение. Прошу любить и жаловать.
Незнакомец вежливо улыбнулся. Некоторые из присутствующих с удивлением заметили, что лилия в его петлице в этот момент окрасилась из пурпура в ультрамарин. Он выступил вперед.
– Рад знакомству, господа, – сказал он твердым, с хрипотцой голосом. – Мое имя Иван Мичурин.
Лилия в его петлице вдруг смущенно сжалась в бутон. А вновь раскрыв лепестки, из ультрамариновой превратилась в яично-желтую, солнечную.
(«Дриады» прорывают фронт)
Едва в щелях настила забрезжил рассвет, поручик Ромашов поднялся с неудобного ложа (шинель, расстеленная поверх пустых снарядных ящиков). Стал, ежась от утренней прохладцы, натягивать сапоги. Всю ночь накануне он не смыкал глаз – по крыше блиндажа барабанил проливной, тропически сильный дождь с градом, перекрывавший даже пулеметную дробь и артиллерийскую канонаду. До рассвета эскадра «скатов» гнала с Вислы дождевые тучи, на случай, если германцы попытаются затемно прорвать линию отчаянным рывком, применив фосген.
Ромашов взял со стола портупею, скользнул взглядом по припорошенной осыпавшейся с потолка землей обложке «Нивы» (двухнедельной давности, все недосуг было раскрыть):
…первая вступительная речь Мич…
…указом назначенный на пост премьер…
…начал со слов: У меня есть мечта…
Пристегнув шашку и кобуру, Ромашов поправил зацепившийся за портупейные ремни шнурок с сигнальным свистком, надел фуражку. Придерживая ножны, выбрался по скользким ступеням наружу.
По стенке траншеи выстраивалась, торопливо вполголоса читая молитву, охая и кряхтя спросонья, простуженно шмыгая и смачно харкая, хрипло ругаясь, кляня погоду, злой век и немца, длинная шеренга людей. Порыкивали, прохаживаясь вдоль строя, унтера. Скрипели свинчиваемые с фляжек крышки, бряцала натягиваемая через голову сбруя амуниции. Неверный алый свет восхода окрасил алым стальные шлемы и нацелившийся в небо кривой частокол штыков.
Поручик пошел мимо роты, рывком прикладывая руку к козырьку в ответ на приветствия, щурясь на пунцовое зарево рассвета. Под ногами чавкала и хлюпала густо-охристая грязь, облепляла голенища, утяжеляя шаг. Ветер холодил щеки, забирался под башлык и мурашками разбегался по спине. Гнал клочья туч обратно к Висле, хлопал выцветшим триколором над бруствером. Высоко в небе, расправив паруса крыльев, чертя по воздуху завитком тонкого хвоста, пуская с рогов короткие электрические разряды, за линию фронта возвращался одинокий «скат».
Рассвет не успел толком забрезжить, а горизонт укутался, как плащом от утреннего озноба, мутным туманом, надежно скрыв алую теплынь. Фронт погрузился в сумерки.
На пересечении земляных ходов стояла группа офицеров с раскрытыми планшетами. Среди серых пехотных шинелей выделялся белым шарфом и комбинезоном из потертой рыжей кожи прапорщик Фомич из приданного батальону разведывательного инс-сквадрона. Он был без шлема, темные волосы взъерошены, говорил торопливо, тыкал пальцем в карту, отмечая огневые точки. Едва капитан закончил краткий брифинг (предстоящее дело в подробностях успели обсудить накануне), Фомич протиснулся к Ромашову, сияя по-штатски беззаботной румяностью и озорно блестя левым глазом (правый скрывала пиратская повязка из черного шелка).
– Сашка, чегт! – сильно грассируя, воскликнул он. – Полжизни за папигосу!
– Никак, Олег, свои лафермовские потерял? – Ромашов извлек из кармана шинели серебряный портсигар.
Со вкусом задымили. Фомич стал азартно пересказывать ход проведенной затемно рекогносцировки (у него выходило «геконносцивовка»). Под прикрытием ливня, подгоняемого благословенными «скатами», дошли до самых проволочных заграждений, но немец ответил кучным пулеметным огнем, пришлось повернуть. Потерь, слава Богу, никаких. Вот только шлем потерял, седельную сумку осколками покрошило, а с ней фляжку шнапса (чегт с ней! Еще натгофейничаем!), и последнюю пару пачек лафермовского «Медка» (попгобуй тепегь достать!)