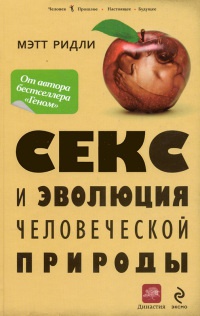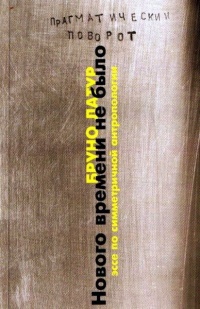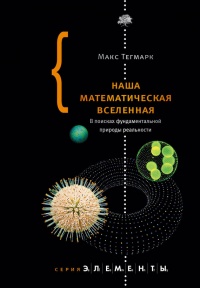Книга Политики природы. Как привить наукам демократию - Брюно Латур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вся история конфликтов подтверждает одно: если оружие не оставлено при входе, никакое гражданское собрание невозможно. Наша стратегия состоит в последовательной дедраматизации, которая позволяет перековать мечи нынешних воинов на орала будущих граждан. В этой главе мы не пытаемся представить некую фундаментальную метафизику, которая позволила бы нам раз и навсегда обустроить вселенную. Напротив, она направлена против любого принятого втайне решения о подобном обустройстве, которое мы хотим сделать предметом общественного обсуждения. Мы всего лишь хотим понять, как должны быть оснащены существа, чтобы собрать жизнеспособный коллектив, вместо того чтобы разделяться на две одинаково незаконные ассамблеи, которые делают друг друга бессильными и препятствуют нормальному течению общественной жизни.
Для этой миротворческой операции мы предлагаем что-то вроде обмена любезностями, своего рода джентльменское соглашение: почему бы не признать за вашими противниками достоинства, которые вы цените выше всего? Мы убедились в том, что это было возможно в отношении терминов «речь» и «социальный актор», которые мы считали антропоморфными: не было ни одной причины закреплять их исключительно за людьми, потому что они прекрасно подходят для нелюдéй, с которыми люди ежедневно пересекаются и которые все быстрее становятся частью общего коллектива благодаря работе лабораторий. Теперь нам нужно проделать обратную операцию и выяснить, так ли это в отношении терминов, которые обычно относятся к так называемым объектам, например в отношении реальности. У этих «граждан» уже есть артикуляционный аппарат, они могут действовать и вступать в ассоциации, остается только снабдить их телом.
Разумеется, ни в коем случае нельзя сохранять ту часть понятия внешней реальности, которая ранее ассоциировалась с полемикой вокруг Пещеры. Но нам также известно, что, отказываясь от подобной полемики, мы не утрачиваем всякой связи с реальностью, какой бы незавидной участью ни грозила нам эпистемологическая полиция. Мы еще раз можем оценить разницу между работой, которую выполняет противопоставление субъект/объект, и тем, что позволяет осуществить ассоциацию людей и нелюдéй. Всякий раз когда мы используем понятие субъекта, мы пытаемся избежать чего-то отвратительного, известного как «реификация», «овеществление», «натурализация». Чтобы не дать этому монстру прийти к власти, мы готовы на все, вплоть до того, что будем настаивать на существовании субъектов, «отделенных» от природы, наделенных сознанием и волей, неотъемлемым правом на свободу, одним словом, навечно и полностью освобожденных от установленного порядка вещей. И этот монстр на самом деле угрожает субъекту, поскольку, прикрываясь природой, он вводит понятие не допускающей возражений речи, в нелепости которого мы убедились во втором разделе.
Но для чего нам понадобилась подобная нелепость? Для этого есть довольно веские причины, ведь иначе станет ясно, чем является эта не допускающая возражений речь, а именно: противоречием в определении. Если кто-то сможет пользоваться ею без угрызений совести, то только для того, чтобы бороться с чем-то еще более отталкивающим: с жестокостью политических аффектов, изменчивостью мнений, убеждений, ценностей, интересов, которые угрожают повлиять на установление фактов, упразднить объективность, уничтожить доступ к самим вещам, заменить реальный мир бесконечным круговоротом человеческих страстей. Чтобы не дать этому монстру прийти к власти, мы готовы на все, вплоть до того, чтобы настаивать на существовании вне какого бы то ни было человеческого общества непререкаемых законов, вечных и объективных, которые неподвластны возбужденной толпе и пред которыми субъекты должны смиренно пасть ниц. С каждым колебанием весов амплитуда увеличивается, на любой абсурд следует еще более абсурдный ответ с другой стороны. На протяжении столетий именно эта инфернальная диалектика постепенно делала понятие внешней реальности неосуществимым на практике. Нет ничего более простодушного, чем это понятие, и нет ничего, что было бы столь дьявольски политическим. Нет ни одной незначительной детали, которая не говорила бы о желании избавиться от власти одного монстра и ускорить приход другого, еще более ужасного, который преградит ему дорогу.
В последующих главах мы увидим, как заменить плохо обоснованную экстериорность [extériorité], упоминаемую сегодня в дискуссиях, на чаемую нами экстериоризацию [extériorisation], которую мы уже обсудили в общих чертах и характер которой определили. Пока же мы должны убедиться в том, что, собирая в коллектив социальных акторов, наделенных даром речи, мы не потеряем доступ к внешней реальности и не останемся один на один с привычными фантомами социальных наук: символами, репрезентациями, означающими и прочими эфемерными феноменами из того же теста, которые существуют лишь по контрасту с той природой, что закреплена за естественными науками. Если мы хотим, чтобы коллектив мог собраться, то достаточно отделить понятие внешней реальности от понятия непреложной необходимости, чтобы равномерно распределять власть между всеми «гражданами», являются ли они людьми или нелюдьми́. Поэтому для нас понятие внешней реальности будет ассоциироваться скорее с неожиданностью и событием, чем с «наличным бытием» [être-la] военной традиции, неоспоримым присутствием matters of fact [13].
Свобода является принципиальным отличием человека не более, чем речь; точно так же как отличительной чертой не-человека не является необходимость. О них можно сказать только то, что они вторгаются внезапно, пополняя собой перечень тех, с кем нужно считаться. Читатель должен понять, что речь не идет о каком-то удивительном, диалектическом, новом, экзотическом, барочном, восточном, глубоком решении. Нет, оно является весьма банальным, и именно в этом его достоинство. Оно является мирским, светским, обыкновенным; оно поверхностно, оно бесцветно (85). Его банальность делает его идеальным кандидатом для замены скандального противопоставления субъект/объект. Разве может быть более надежное основание здравого смысла, чем очевидность этих человеческих и нечеловеческих акторов, ассоциация которых порой удивляет? Ни больше ни меньше.
Теперь мы понимаем этот урок политической экологии, который казался нам парадоксальным, когда мы впервые получили его в первой главе: экологические и санитарные кризисы, утверждали мы, обнаруживают себя в непонимании связей между акторами и внезапно возникшей невозможности собрать их вместе. Подлинное достоинство экологического активизма заключается именно в неожиданности: когда мы вдруг замечаем, как новый актор, человек или не-человек внезапно вмешивается в некоторое действие в момент, когда мы ожидаем этого меньше всего. Но окончательная форма человеческой натуры, предрешенное устройство природы менее всего ему доступно. Политическая экология не может раз и навсегда определить свободу или необходимость; она не может с самого начала решить, что природа будет предрасположена к необходимости, а человек – к свободе. Она оказывается вовлечена в эксперимент, в ходе которого акторы пытаются соединиться друг с другом или избежать друг друга. Да, коллектив – это плавильный котел, но в нем смешиваются не природные объекты и субъекты права, а определенные в соответствии с перечнями действий актанты, ни один из которых не является исчерпывающим. Если бы на знамя политической экологии нужно было бы нанести какой-нибудь девиз, это была бы вовсе не топорная формула, в которую еще верят некоторые активисты – «Защитим природу!», а совершенно другая, куда более подходящая для многочисленных неожиданностей, с которыми она сталкивается на практике: «Никто не знает, на что способна окружающая среда…»