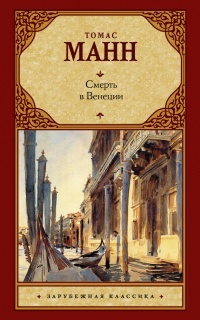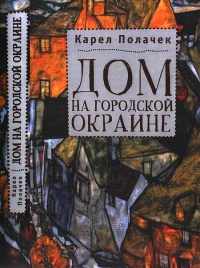Книга Всего лишь женщина - Франсис Карко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она этого и не скрывала. И даже если бы попыталась скрыть, я все равно догадался бы, так как подобного рода амбиции у нее обнаруживались уже давно. Достаточно было вспомнить ее связь с Фернаном. Ведь она любила не его самого, а то положение, которое он ей создал. И когда Фернан охладел к ней… какая произошла катастрофа! Ведь я же вовсе не был для нее подходящей партией. Я был всего лишь ее старой привычкой, за которую, однако, она в отчаянии ухватилась, как за спасительную соломинку. Я чувствовал, что был для нее всегда и до сих пор являюсь только господином Клодом. О моем пороке, об удовольствии, которое я испытывал, деля Мариэтту с другими, она и не подозревала. С того момента, как я перестал быть ее нахлебником, я превратился для нее просто в некоего господина, а быть господином для этого создания, столь привязанного к провинциальным устоям и столь ограниченного в своих буржуазных вкусах, значило ограждать ее от ощущения, что она безвозвратно падшая женщина.
Падшим-то из нас двоих оказался как раз я. Нужно было признать это, и я это признал. Я не искал оправданий, так как Мариэтта, изменив свою жизнь, стала мне как бы чужой. Если бы я испытывал к ней страсть, не отягощенную низкими расчетами, разве я не порадовался бы обстоятельствам, благодаря которым Мариэтта вырвалась из ее недостойного ремесла? Но я-то любил только порочную страсть, и ситуация теперь настолько прояснилась, стала такой очевидной, что перспектива потерять любовницу доставляла мне гораздо меньше переживаний, чем утрата возможности испытывать нездоровое и сладострастное ощущение, что я не единственный, с кем она предается наслаждениям.
В этом выразилась вся моя суть, моя развращенность, гнездившийся во мне странный порок: теперь к тем гнусным удовольствиям, которые я до сих пор получал от Мариэтты, я присовокуплял еще и сожаление о том, что не сумел воспользоваться ее деньгами в такой же мере, как она сама. Я знал, что случай упущен… упущен навсегда, вместе с ней самой. Стоило ли теперь проявлять настойчивость? У меня не хватало на это решительности. Так что я предоставлял мою любовницу ее судьбе, и в тот вечер, когда бар открылся, отец вручил мне пятьсот франков.
— Мы тебя не гоним, ты же знаешь! — заметил он.
— Знаю, знаю, — ответил я.
Мы стояли на тротуаре перед этим самым баром, баром встречи Мариэтты и Максима, ставшим также и баром нашего неизбежного расставания. Из граммофона разносились по всему помещению звонкие и чуть гнусавые звуки шотландской песенки.
— Ну, удачи! — сказал мне отец. — Я нужен сейчас там, внутри.
Он вернулся в бар. Я ушел не сразу. Со своего места, прикованный глазами к Мариэтте, я некоторое время следил за каждым ее жестом. Догадывалась ли она о моем уходе? Вполне возможно. Действительно, Максим подошел к кассе, и Мариэтта наклонила голову в его сторону. Я понимал, что они говорят обо мне. Тогда я сделал один шаг, второй, а потом принялся бесцельно бродить среди лавочек; некоторые из них были еще освещены. Мягкая, теплая, усыпанная звездами и иногда овеваемая легким ветерком ночь обволакивала улицы. Сидевшие у дверей люди провожали меня взглядами… У каждого своя жизнь, так ведь у каждого и свои огорчения. Я принимал свои огорчения не так уж близко к сердцу, как можно было подумать.
Вот только когда два подвыпивших типа, которые шли за мной и выражали свои мысли со спокойным бесстыдством, как это бывает во время долгой, плывущей в винных парах беседы, вдруг дружно сошлись на одной, словно нарочно долетевшей до меня фразе: «Да ну, конечно… конечно, сутенер! Кот! И ты, ты тоже… Это не всегда сладко!..» — я слегка прибавил шаг.
Посвящается Полю Бурже
Рано утром, разложив на полках своей лавки еще совсем горячие хлебы и подковки, Лампьё поднимался к себе в мансарду. Там, благодаря давившей на него всей своей тяжестью ночной усталости, ему иногда удавалось заснуть. Но стоило проснуться, как тотчас же вместе с ним просыпалась гнетущая тоска, и уже никакими силами нельзя было прогнать ее. Тогда он сбрасывал с себя одеяло, вставал, надевал старые туфли и открывал окошко, чтобы подышать свежим воздухом. Тысячи звуков доносились до него, и он различал каждый из них, начиная от шума автобусов на улице Рамбюто и кончая слабым и в то же время отчетливым звоном отдаленных колокольчиков.
Лампьё прислушивался к этим звукам, подобно человеку, который, очутившись в незнакомом месте, всматривается в окружающие предметы, ища у них объяснения.
И он находил нужный ему ответ и успокоение. Эти звуки говорили ему, что скоро он спустится туда, вниз, и там сольется с толпой и затеряется в общем вихре.
И все же Лампьё не сразу решался выйти. Всякий раз, отворяя двери, он испытывал жуть при мысли, что там могут стоять люди, которые его подкарауливают… Это отнимало у него всякую уверенность.
Однако оказывалось, что проход, ведущий к лестнице, свободен, и никто не преграждает ему путь. «Все спокойно!» — ободрял он себя. Он спешил запереть за собою дверь и, озираясь, бежал на улицу, чтобы скорее затеряться в толпе.
Вот уже три недели, как полиция разыскивала человека, совершившего убийство в улице Сен-Дени.
Лампьё регулярно каждый вечер направлялся в винный погребок близ рынка, где все его знали.
— А! Вот и мсье Франсуа! — приветствовал его хозяин. — Точен, как всегда. Это хорошо.
И, ставя на цинковый прилавок два стаканчика, он наполнял их белым вином. Чокнувшись с гостем, он одним духом осушал свой стакан.
Это было сравнительно глухое время дня. Немногочисленные посетители погребка, сидя на скамейках перед своей кружкой вина, разглаживали подобранные на улице бумажки и свертывали себе сигаретки. Некоторые перечитывали старые номера газет. Стоящая у дверей женщина неопределенного возраста, известная под прозвищем «всеобщей матери», глядела на улицу, поджидая завсегдатаев погребка, чтобы с достоинством попросить у них милостыни.
Узкий, как коридор, грязный, со стенами, покрытыми липкой сыростью, этот погребок принимал свой характерный вид, когда к беднякам, составлявшим главный контингент его посетителей, присоединялись проститутки, приходившие по ночам погреться у огонька. Среди них были Рене, Берта со своим дождевым зонтом, чахоточная Жильберта, толстая Тереза, Иветта Габи, бретонка Лила и Леонтина, про которую говорили, что она убежала из дому, чтобы «устроить свою жизнь».
Некоторых из них Лампьё знал. Он постоянно встречал их, когда отправлялся на работу. Иногда они окликали его и здоровались с ним.
— Добрый вечер, — отвечал он на приветствие и шел дальше, не обращая на них внимания.
В полночь они всё еще бродили по тротуару, постукивая каблуками по асфальту. Пять-шесть из них, которые возвращались на улицу Сен-Дени очень поздно, нагибались к форточке пекарни и просили продать им кусочек горячего хлеба. Они спускали в подвал несколько су и веревочку, которую вытаскивали обратно, когда чувствовали, что привязанный к ее кончику кусок хлеба оттягивает ее вниз.