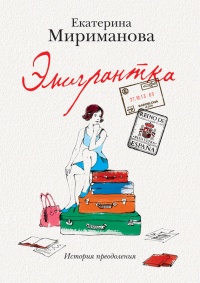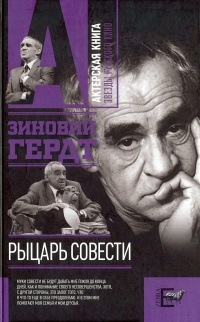Книга Меня зовут Астрагаль - Альбертина Сарразен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Куда ты пойдешь, Анна? Где теперь тебя искать? Ты попадешься… Это что же, выходит, все было зря…
Он прижимает меня крепко-крепко.
– Да что ты так переживаешь? Разве ты не рад, что я выметаюсь отсюда? Мы теперь будем свободны, будем видеться, когда и сколько захотим! Никаких расписаний! Никаких галстуков!
– Я знаю, – отвечал Жюльен. – Каждый живет в одиночку. Но это худшее, что могло случиться: ты уходишь, и я тебя больше никогда не увижу. Буду и я жить по-старому. Один. И теперь уж никто не остановит меня на дороге.
Слезы, Жюльен, твои редкие, суровые слезы капают мне на щеку, обжигают сердце… Я зло усмехаюсь:
– Тебе бы когда-нибудь помучиться с мое и прождать меня столько, сколько я ждала тебя… Ладно, пошли.
– Скажи, по крайней мере, куда ты идешь…
– Не бойся, я знаю, куда пойти. И если хочешь, сама тебя найду. Скажи, где и когда тебе удобно… Больше мне ничего не нужно: приходить по твоему велению, точно в срок, и ждать.
Жюльен предлагает позвать Анни и помириться с ней перед уходом… или попробовать остаться, хотя бы на время.
– А завтра я встречусь с одним приятелем.
– Ну уж нет, опять в нору! Опять какой-нибудь Пьер или снова Анни. Благодарю покорно, не для того я бежала! Послушай, Жюльен, я теперь в полном порядке, и все благодаря тебе, так что…
Жюльен решил, что я готова уступить, он успокоенно улыбается: еще немного – и я капитулирую перед этой улыбкой… но тут из спальни выходит Анни – за водой или в туалет, – и под ее острым насмешливым взглядом решимость моя крепнет. Нет, не останусь ни за что, а то придушу ее или сдохну сама.
Мы выходим на рассвете, не заперев за собой дверей. В такси, везущем нас на вокзал, где Жюльен оставит меня на перроне, а сам сядет в поезд, я беру его руку – она холодная, вялая, неживая, и так же холодны его губы.
– Скорее сюда. Смотри не засмейся.
Равнодушный, беглый стук в дверь. “Войдите”, – отзываюсь я так же равнодушно, но неспешно, ленивым голосом, как будто проспала всю ночь сном праведницы, одна, в своем номере, и проснулась, чтобы привычно заказать в постель завтрак, а потом подремать – понежиться еще. Я солидная клиентка: вид приличный, образ жизни размеренный, занятия неопределенные, – а если случится лишний раз испачкать простынку, то горничные не остаются внакладе. Впрочем, пятна бывают только от пепла или шоколада: практика в квартире Анни научила нас с Жюльеном не оставлять следов, как индейцы. Чтобы попасть ко мне, Жюльен быстро проскальзывает мимо регистратуры, пока я отвлекаю внимание дежурного, громко бренча ключами: на лестнице я его догоняю, открываю дверь, и мы вваливаемся в номер, словно спасаясь от погони.
Сегодня утром у меня сломался кипятильник, а растворять кофе в воде из-под крана нам не улыбалось. Вот я и заказала завтрак по телефону; на одну персону, но такой обильный, чтобы хватило нам обоим: хлеб, рогалики с маслом и джемом, целый кофейник кофе.
Закрыв дверь за горничной, выпускаю Жюльена. Он паинькой сидит в уборной на унитазе.
– Иди скорей, я умираю хочу есть…
Мы устраиваем на кровати теплую пирушку и легкое свинство: поднос стоит на одеяле, мы тянемся к нему, мешая друг другу, а покончив с завтраком, водружаем на его место пепельницу.
– Последняя сигарета, и я бегу.
– Ты же говорил, поезд в одиннадцать ноль четыре, еще есть время. Давай немножко полежим.
– Нет, я должен еще кое с кем повидаться. Не думай, это не женщина!
Какая мне разница! Я утыкаюсь Жюльену в плечо, кончиками пальцев перебираю волосы у него на груди, любуюсь его бархатной золотистой кожей, изучаю каждый изгиб, каждую родинку, каждую прожилку, чтобы запомнить и жить этой памятью до следующего раза: сутки счастья два-три раза в месяц – вот и все, что мне перепадает. Все остальное время – работа, каторга, да еще с вечным подспудным страхом.
Почти каждый день дождь: волосы у меня вьются колечками, мокрая юбка облепляет ноги, щиколотка наливается холодной тяжестью и болью, но я хожу, потому что надо. Чтобы можно было сказать Жюльену: “Не волнуйся, я выкручиваюсь”, чтобы быть независимой и непроницаемой, чтобы заставить его забыть долгие месяцы, когда я была у него на иждивении, и изгнать мысль, будто я люблю его из признательности, чтобы ничто не омрачало наши встречи, чтобы и Жюльен стал держаться за меня, чтоб скучал по мне… У Пьера и у Анни ему не о чем было тревожиться, я была пристроена и не могла никуда деться, теперь же я сама устроила гнездышко, не такое безопасное, зато пригодное для жизни, держу его в неприкосновенности, берегу только для нас с Жюльеном, отведя для собственных нужд жалкий закуток, тесную, убогую каморку.
Конечно, со временем я буду делать другие “дела”, покрупнее и посерьезнее, но пока надо обеспечить базу.
Я никогда не бываю голодна, но желания мучат меня не хуже голода, я всегда страстно хочу Жюльена, и в эту страсть вплетается тысяча вздорных, причудливых, детских капризов…
К четырем часам дня я заканчиваю тщательно продуманный туалет, который должен оставаться свежим до самой ночи: нервущиеся чулки, несмываемая тушь, наряд элегантный и в то же время удобный; вылизываю номер, как аккуратная пансионерка, раскладываю все по местам – во-первых, я всегда побаивалась уборщиц, а во-вторых, каждый раз, уходя, могла больше не вернуться.
(“А ну встать! Никаких стульев, небось не развалишься! Ишь цаца!”)
И когда после нескольких часов допроса я сдамся и назову свой адрес, молодчики не найдут ничего, кроме выстиранных трусиков на батарее да стопки счетов: с почты, от часовщика, из транспортного агентства, – так что даже с их манией в каждой мало-мальски приличной вещи видеть краденое придраться будет не к чему.
К такому надо быть готовой каждый час, каждый миг…
Ночую я чаще всего дома, потому что обычно к тому времени, когда надо бы, прогнав сон и превратившись в тень, приступать к поискам клиентов на всю ночь, более выгодных, чем “минутные” гости, мне все до черта надоедало. Впрочем, рассказы о тридцати или пятидесяти тысячах за ночь я слышала только в камере, а там чего только не наплетут. В принципе, беглая должна бы брать за ночь еще и побольше, но для меня что день, что ночь – все одинаково окутано серым сумраком мертвящего страха. Я подавляю отвращение и скуку, пока не наберется определенная сумма, а потом спешу смыть их в волнах благостного, непроницаемого сна.
В барах, где роятся проститутки, мне случалось наткнуться на малолеток, знакомых по Френу[6]; одни так и работали подпольно, дожидаясь, пока смогут по возрасту получить желтый билет, другие его уже получили и стали профессионалками. Они узнавали меня, несмотря на то что у меня изменилась походка, я похудела килограммов на десять и сменила тюремную одежду на обычную.