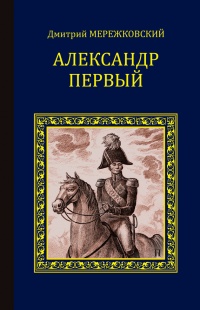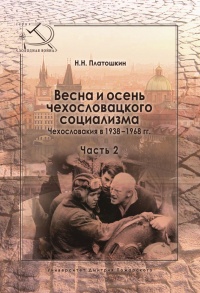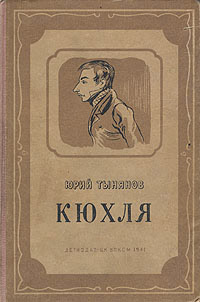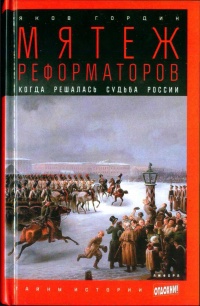Книга Оппозиция его величества - Михаил Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но обаяние портрета не исчезло.
Герой опирается на саблю, но кажется, ему нетрудно опереться на одну из острых вершин, в правильном беспорядке нагроможденных на горизонте. И романтический пейзаж, и гривастая бурка, делающая похожим на гору мощный торс, на котором несколько чужеродно выглядит край эполета, все это — как бы пьедестал для лица.
Оно царит.
Царит над облаками, над мятущимся, тревожным, еще только начинающим успокаиваться небом, над величавыми горами.
Резкие мощные черты, грозно сжатые губы, будто навек окаменевшие скулы, подбородок Цезаря или Мефистофеля, львиные бугры нахмуренного лба. Это лицо само по себе кажется главной вершиной Главного Кавказского хребта. И, конечно, на таком лице могут быть именно эти небольшие острые глаза. Что они видят там, за горами?
Какие страны? Какие моря? Что еще должно покорить?
Кстати, этот портрет едва ли не единственный в Военной галерее Зимнего дворца, на котором изображен не герой 1812 г., а герой вообще. Ермолов, по существу, лишен отвлекающих внимание аксессуаров военного мундира. И, быть может, не случайно его бурка так похожа на львиную шкуру из тех, что набрасывали на плечи античные исполины и императоры. Это — римлянин. Недаром его называли тогда Проконсулом.
В иконографии Ермолова примечателен еще один прекрасный портрет (он помещен в БСЭ). Трудно отделаться от ощущения, что он явно спорит с изображением Доу (строго говоря, Доу написал два варианта портрета Ермолова). Герой изображен анфас. Хотя он постарел, голова совершенно белая, но тем не менее это муж в расцвете сил и опыта. Лоб его по-прежнему нахмурен, те же гордые красивые черты лица, жесткая линия рта замыкается теперь скобой черных усов, подчеркивающих благородную седину густых коротких волос. В портрете есть что-то от пушкинского определения Ермолова — «голова тигра на туловище Геркулеса». Генеральский мундир с Георгиевским орденом 2-й степени на шее, тремя звездами и лентой усиливает впечатление мрачного величия.
Этот портрет может льстить герою не хуже всякого иного, притом я не сомневаюсь, что Ермолову он нравился. Но в нем определенно не хватает романтической приподнятости и авторской как бы умиленности изображаемым, которые столь свойственны жанру вообще и парадным портретам Доу, в частности; у него они создают своего рода эмоциональную рамку для личности. Автор второго портрета видит Ермолова иначе, он словно знает о нем что-то такое, чего не знал или не видел Доу. Этот постаревший Ермолов, быть может, даже значительнее, величественнее, но в то же время как-то обыденнее, конкретнее, что ли. С точки зрения романтического обаяния портреты различаются примерно так же, как «Кавказский пленник» и «Записки во время управления Грузией».
Второй портрет принадлежит кисти художника с необычной фамилией Захаров-Чеченец. Он прожил короткую и странную жизнь. И действительно знал о Ермолове немало.
14 сентября 1819 г. русские войска окружили и разгромили аул Дадан-Юрт. Приказ был «никому не давать пощады», ибо Ермолову был нужен «пример ужаса». Погибло не менее 400 жителей и около 200 солдат и казаков. «Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие женщины бросались на солдат с кинжалами… Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования (но гораздо большее число вырезано или в домах погибло от действия артиллерии и пожара)», — сообщает Ермолов в своих «Записках»[98].
Среди пленных был мальчик, ставший в тот день сиротой. Его взял на воспитание Петр Николаевич Ермолов, кузен Алексея Петровича.
Мальчик вырос и стал художником. И написал портрет злого дяди, который в воспитательных целях сделал его сиротой и лишил родного дома. Такое вот странное сближение…
Трудно сказать, каково было истинное отношение Захарова к своей необычной судьбе. Но об отношении к А. П. Ермолову судить можно. Его Ермолов — не романтический «Проконсул» Доу. Это человек, устраивающий, выражаясь языком просвещенного XX в., акции устрашения, а затем описывающий их с простодушным цинизмом. Едва ли этот человек после высадки Наполеона с о. Эльба мог когда-то произнести: «Неужели великодушнее положить тысячи невинных, нежели отнять жизнь у одного злодея?» Этот — не мог.
* * *
Эпиграфом к теме «Ермолов и колониальная политика России» может служить сравнительно недавнее решение городских властей Грозного о том, что многострадальный памятник Ермолову должен быть, наконец, убран. Едва ли Алексей Петрович в своей реальной боевой жизни подвергался таким опасностям, как его металлическое изображение, стоявшее на улице им же основанной крепости Грозной и как бы продлевавшее его военную биографию. Понятно, что памятник Ермолову было бы куда уместнее водрузить на его родине в Орле.
Как известно, до Великой Отечественной войны имя Ермолова в советской историографии употреблялось преимущественно с отрицательным знаком. Однако после выселения с родины чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев внезапно «выяснилось», что Шамиль, оказывается, был английским и турецким шпионом одновременно (видимо, в духе времени, быть агентом какой-то одной страны было несолидно). Одновременно «вспомнили», что Ермолов был другом декабристов, знаменем оппозиции и т. д. Первой «ласточкой» здесь оказалась глава «Ермолов и ермоловцы» в книге М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы» (1947), появление которой невозможно представить, скажем, в 1940 г., когда вышел университетский учебник истории СССР XIX в.
Поскольку деятельность Ермолова в Дагестане и Закавказье даже и после событий, «ознаменовавших» поворот в национальной политике нашей страны оценить с симпатией было трудно, то о ней стали писать как можно меньше. В итоге в работах, посвященных Ермолову в последние десятилетия, мы просто видим фразы о «противоречивости некоторых сторон его мировоззрения», которые так же мало проясняют его личность, как и прежние умолчания о любви к нему многих прогрессивных людей России XIX века.
Между тем понятно, что (прошу прощения за банальность) противопоставлять Ермолова, чьим именем пугали детей в горах, Ермолову, которым клялись такие люди, как Якубович, например, на каторге, неправильно.
За недостатком места мы не сможем осветить эту сложнейшую проблему хоть сколько-нибудь подробно. Но сделать некоторые замечания необходимо.
Проблема отношений с местным населением была так же важна, как и сложна. Велика была и ответственность Ермолова без преувеличения за каждое действие. Впрочем, он к этому был готов.
Первым объектом его «экспансии» стала азербайджанская и грузинская знать. Он, как мы знаем, вообще не жаловал титулованных особ, а здесь к тому же были дополнительные и веские причины. «Мои предместники слабостию своею избаловали всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не менее султанов турецких и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать, они думают по правам им позволительными. Предместники мои вели с ними переписку, как с любовницами, такие нежности, сладости, и точно как будто мы у них во власти. Я начал вразумлять их», — пишет он Закревскому. Немногим лучше его мнение о грузинской знати: «Князья ничто иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То же благоразумие одних в законодательстве, других в совершенном убеждении, что нет законов совершеннейших».