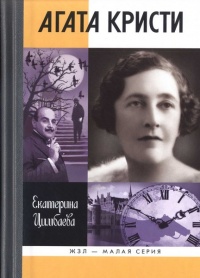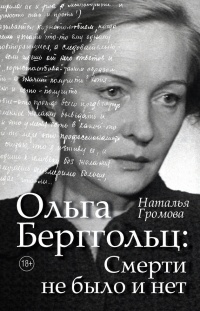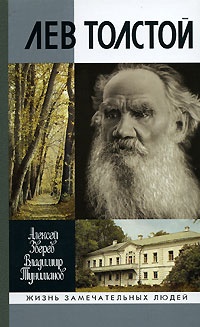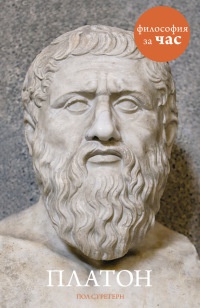Книга Английская портниха - Мэри Чэмберлен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сестра Бригитта все продумала заранее и посвятила сестру Агату в свой план. Аде придется отдать ребенка. Отдать священнику. Расстаться с младенцем. А потом надеяться и молиться, что его усыновят добрые люди. Ее ребенка, ее Томихена.
Она стиснула ладони. В немецком она недалеко продвинулась, но герр Вайс просветил ее: английский когда-то был немецким, а значит, если она не знает какое-то слово, стоит попробовать английский.
– Ребенок, – начала она. – Wir haben gefunden. Vor der Tür[22]. – Ада убрала край полотенца с маленького личика. Она должна запомнить свою кроху. – Подкидыш. – Объяснения давались ей с трудом.
Отец Фридель сморщил лоб в недоумении. Мать рассказала ей однажды, как подкидывают младенцев, всего-то открывают нижнюю створку в двери и кладут ребенка под порогом с внутренней стороны. Ада показала знаками: вот она открывает откидную створку, сует кулек с ребенком, закрывает створку.
– Ja, ja, – сказал отец Фридель. – Ein Babyklappe[23].
Ада не была уверена, правильно ли он понял, но утвердительно кивнула.
– Скажи ему, – продолжила сестра Бригитта, – что никто не должен об этом знать. Что он должен забрать ребенка прямо сейчас, пока тот спит. Положить его в саквояж. И никому ничего не говорить.
Если отца Фриделя поймают с таким грузом, им конец. И Томасу тоже. Ада показала на младенца, потом на сумку.
– Still, – она приложила палец к губам, – nicht ein Wort[24]. – Еще один жест: выносите его.
– Ja, ja, – повторил отец Фридель.
Понял ли он, чего от него хотят, и способен ли вообще понять, но священник был их единственной надеждой: только он мог вызволить Томаса и дать ему шанс выжить.
Ада рывком встала на ноги. Нельзя обнаружить, насколько она измучена, иначе отец Фридель догадается, что это она родила мальчонку. Сестра Бригитта принялась за дело: взяла саквояж священника, поставила его на нары, раскрыла, орарь ото двинула к одной стенке, распятие и склянку с елеем к другой. Подняла Томаса и уложила его на дно саквояжа. Отец Фридель наблюдал за ней, улыбаясь. У него старческий маразм, подумала Ада. Совсем из ума выжил. Господи Боже. Сестра Бригитта уже закрывала саквояж.
– Погодите. – Порывшись в глубоком кармане, Ада достала шерстяного медвежонка. Нагнулась над саквояжем, спрятала медвежонка в складках полотенца и поцеловала Томаса в лоб, гладкий, как воск. – Это на счастье, – шепнула она. – Я вернусь, мой маленький Томихен. Я найду тебя.
Она вытащила орарь с вышитым распятием и накрыла им ребенка. Если солдаты заставят отца Фриделя предъявить содержимое сумки, то, увидев орарь и крест, возможно, не станут копаться дальше.
– Мы назвали его Томасом, – обернулась она к священнику.
– Ему пора уходить, – поторопила сестра Бригитта.
– Пожалуйста, – по-английски сказала Ада, – прошу, позаботьтесь о нем.
Как сказать это по-немецки, она не знала. Самые важные слова, а она не умеет донести их смысл. Томасу было всего три часа от роду. Ее ненаглядному малышу. Она понимала, что медлить дольше нельзя. Она еще наглядится на него – впереди целая жизнь. Защелкнув замок, она подала саквояж священнику.
Отец Фридель пожал плечами, ухватился покрепче за ручку, а другую ладонь поднял, благословляя: In nomine Patris…
Сестра Бригитта вышла его проводить. Ада слышала их шаги на каменных ступенях. Пятнадцать ступенек до лестничной площадки, потом еще пятнадцать. Постепенно шаги стихли. Дверь в комнату захлопнулась. Ада бросилась на постель, зарылась лицом в жесткий матрас и завыла.
На следующее утро сестра Бригитта выудила из-под матраса припрятанные бинты и обмотала ими живот Ады.
– Вы не станете об этом говорить, – почти по складам произнесла монахиня, бинтуя потуже. – Понятно?
У сестры Бригитты никогда не отнимали ребенка, она никогда не наблюдала беспомощно, как ее сына кладут в сумку и уносят неведомо куда. Ей не понять Адиной тоски: где сейчас Томас, жив он или мертв? Такого отчаяния сестра Бригитта никогда не испытывала. Ада же никогда не чувствовала себя настолько одинокой.
– Сочтите это жертвой, – продолжила сестра Бригитта, – искупительной. А кроме того, – она еще сильнее натянула бинт, – от вашего молчания зависит наша жизнь.
– Но отец Фридель…
– Он ничего не знает, – отмахнулась сестра Бригитта. – Никому ни слова. – Она обняла Аду: – Можете встать?
Опираясь на сестру Бригитту, Ада поднялась.
– Вам бы полежать дней десять, – сказала монахиня таким тоном, будто это Ада рвалась встать на ноги, – отдохнуть, восстановиться. Но перевязка, – она похлопала Аду по животу, – поможет избежать выпадения влагалища.
Выпадение… У старух оно нередко случается, и тогда от них воняет мочой. Аду передернуло.
– Я не могу вас больше прикрывать. Грудь болит? Много молока?
Томихен. Томмикин. Ада попыталась вызвать в памяти его личико, сморщенное, розовое, с набухшими веками, но детали уже начали забываться, хотя минуло всего два дня. По запаху она бы его точно узнала, не сомневалась Ада. Он пах ею, подушкой из ее внутренней плоти. Она закрыла глаза, изо всех сил цепляясь за ускользающее воспоминание.
– Сестра Клара, извольте ответить.
– Извините, – очнулась Ада. – Просто я не могу не думать…
– Вы должны перестать думать, – резко перебила сестра Бригитта, – иначе рехнетесь. А теперь берите меня под руку, и мы попробуем одолеть лестницу.
Куда подевалась ее молодая прыть? Ада еле ковыляла. Изнеможение, какого она прежде не знала. У лестницы она остановилась. Если она сейчас упадет в обморок, то потянет и сестру Бригитту за собой. Ада вцепилась в перила и шагнула на ступеньку.
С наступлением лета у герра Вайса вошло в привычку поджидать Аду в оранжерее, примыкавшей к больнице, – просторной стеклянной постройке с выходом в сад и плетеными креслами вдоль стен. Зимой они встречались в общей гостиной, и герр Вайс постоянно жаловался, что там слишком шумно, хотя никто, кроме них, почти не разговаривал, насколько могла заметить Ада. «Здесь же, – сказал он, приглашая Аду усесться рядом, – мы одни. Вы и я». И, как обычно, стиснул ее руку.
– Расскажите о себе, – попросил он однажды вечером. – Чем вы занимались до того, как стали монахиней? Мне нравится воображать, какой вы были в ту пору.
Сама Ада с трудом припоминала, какой она была в Лондоне и в Париже, и тогдашнее счастье, реальное или выдуманное, тоже подзабылось. После родов она исхудала, ряса сестры Жанны висела на ней мешком. Будь у Ады иголка с ниткой, она бы ушила себе одежду, подогнала по размеру, но стоило ли суетиться. Она выглядела чучелом, это несомненно, ну и плевать. Кожа у нее шелушилась, на лице проступили морщины.