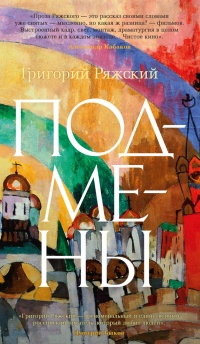Книга Колония нескучного режима - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Триш присела и поманила Ирода к себе. Тот осторожно приблизился и вопросительно заглянул ей в глаза. Страха не было, ни с той, ни с другой стороны. Был явный взаимный интерес. Она погладила его по голове — Ирод позволил, не отстранился. Тогда она прижала его к груди, и пёс от удовольствия завёл глаза к потолку. Триш поднялась:
— Надо его кормит. Он едет в кантри хаус.
— Понял, — послушно отреагировал Шварц и улыбнулся, прижав девушку к себе: — А я еду?
Их жижинская неделя начала августа выдалась на удивление безоблачной. В том смысле, что небо, словно приветствуя возвращение обитателей Парашиного дома в расширенном составе, раскинулось над Жижей чистым и ослепительно-голубым, раздвинув горизонт и оттеснив облака за нижние его края по всей небесной окружности, куда хватало глаз. Стоял полный воздушный штиль, однако августовская жара каким-то чудом ухитрялась не задирать градус выше двадцати семи.
— Рай! — выдохнула Приска и посмотрела на сестру. — Рай?
— Рай? — переспросила та, подставляя лицо небу.
— Парадайз… — Приска обняла её и спросила по-русски: — Нравится?
Тришка подумала и ответила, тоже по-русски:
— Мне так кажется, я влубила… м-м-м… влубилась. Очен силно. Райт?
— Правильно, — засмеялась Приска, — а куда ты ещё должна была деться?
Внезапно Патриша перешла на английский:
— Скажи, Прис, я была там, — она указала рукой в конец двора, где размещался грубо сколоченный туалет. — Это навоз. Да? Там отверстие вниз и темно. А где же тогда…
Прис вздохнула:
— Привыкай, милая, это Россия. А то, что ты видела, это русский туалет, — она подтолкнула сестру рукой в направлении будки, состроив при этом рожицу. — Смелей…
Ирод, почуявший запах настоящей, негородской свободы, какую нигде и никогда ещё не нюхал, обезумел от свалившегося на него счастья. Он носился по деревне как умалишённый, заглядывал во все дыры, от амбара, откуда не выветривался запах коровьего молока, до куриной кормушки с остатками засыхающих картофельных очисток и недобранного курами прошлогоднего зерна. Отметился в заброшенной церкви, что через овраг, оставил густой след в саду, определив себя в совладельцы никем не охраняемого яблоневого рая. Затем сгонял на кладбище, что отстояло от Жижи на полпути, не доходя Хендехоховки. Ближе к первому вечеру похлебал глиняной жижи из оврага, замарав рыжей мутью передние лапы. После вечерней дойки баба Параша налила ему молока, и он, заведя глаза, лихорадочно выхлёбывал драгоценную парную жидкость, ради которой готов был отныне верой и правдой служить этой доброй женщине с теплыми, грубоватыми руками, совсем не похожей на его столичную крестницу — дворничиху с Октябрьской.
Когда приехали и разместились, Параша вопросительно кивнула Юлику на Триш:
— Твоя?
Тот гордо кивнул в ответ:
— Чья ж ещё, баб Прасковь?
— Харошия тожа, — благосклонно покачала та головой. — Как энта, как наша. И по лицу такая ж. Тольки…
— Что? — насторожился Шварц.
— Тольки пришибленная малость, не так весёлая, как наша. Тожи нерусская?
— Тоже, — обречённо согласился художник, — ты погоди, баб Параш, она попривыкнет, перестанет стесняться. У них там так принято, у нерусских.
— Ну-ну… — согласилась хозяйка, — пущай покушаеть и обвыкнеть, а там и повеселеет, гляди… Вам где постилать-то, на двору аль в хати?
— На сене, — категорично отозвался Шварц, — а то она хорошо не обвыкнет и придётся менять её на нашу. А я не хочу её менять, я её люблю. Она мне будет законная жена, поняла, баб Прасковь?
Утром ушли за грибами, вместе с Иродом; проходили весь день, потом вместе чистили грибную добычу, сидя в палисаднике. Вернее, чистили все, кроме Гвидона, который вызвался довести домой девчурку лет шести-семи, на которую они наткнулись в лесу. Он присоединился к остальным позже, отмахав лишних километров пять, до Боровска и обратно.
А к вечеру безотказная Параша нажарила полную сковороду крупно накромсанных боровиков, перемешанных с подберезовиками и молодым репчатым луком с огорода. Оттуда же копанули молодой ещё картошки, отварили и, обжигая губы, ели прямо так, в мундире, откусывая от круглых горячих картофелин, присыпанных крупной сероватой солью и бабкиным укропом. А грибы ели ложками, вилка в доме была одна, её решено было оставить хозяйке, чтобы никому не было обидно. На десерт был самогон из сахара и ночь на сеновале. Но это — у Юлика с Тришей. Гвидон с Приской предпочли остаться в избе — не хотели мешать влюблённым.
Странно, но за тридцать прожитых лет — Юлик как-то поймал себя на этой мысли — он не был ни разу влюблен. Когда-то слышал в компании разговор знакомых врачей: если мужчина до тридцати не любил ни разу или по крайней мере не жил продолжительное время с постоянной женщиной, к которой испытывал привязанность или симпатию, то ищите в этом патологию.
Юлик тогда прикинул и сообразил, что в запасе у него ещё года три. Потом вдруг возник откуда ни возьмись косяк девок из балетного училища — каким ветром его надуло, он уж и не помнил. Кто-то приволок к нему в мастерскую одну, остальные в поисковой лихорадке набежали вслед. Ну и разговор врачебный тот как-то стёрся сам собой. Помнится только, что стал вдруг везде не успевать, а кордебалетные девки роились вокруг, как голодная стая мух, все из провинции, все хотели дружить и все давали без прелюдий и последствий, кто в расчёте на Москву, кто — на портрет маслом в рост на пуантах. Те, что истинно балетные, с талантом, духовкой в лице и растяжкой на полциферблата по вертикали, те не приходили и не давали. Те у станка день и ночь гнули, про тех уже всё давно и самим им, и учителям их известно было. Потом кордебалет испарился в один день, видать, кончилась их маета у поручня да разобрали девок по провинциальным театрам.
Но памяти, какой хотелось, не осталось. Не задела ни одна. Уж и молоденькие были, и тонкошеие, и сами дюймовочки-тростиночки, фуэте всё своё крутили как бешеные, на спор, кто больше оборотов даст, гнулись как резина, через голову наперекосяк: и стоя, и лёжа, и в прыжке успевали безотказно давать. Позже понял — отдавала кисловатым потом эта любовь, хоть и молодым, балетным, но на рецептор пробивало, как ни старались, ни брызгались, ни терлись, не отбивался ничем крепкий аромат юных рабочих лошадок…
В очередной раз вспомнил о тех врачах, когда закончил наливать на открытии Гвидоновой выставки. Увидел тогда Иконникова в паре с англичанкой, сразу подумалось: могла бы в этот раз и на мне сработать медицина, тормознуть у нехорошей черты, известно ж, вот-вот уже по самой границе патологии пойду, тридцатник как-никак…
Триш лежала рядом, закинув руку ему на грудь, и безмятежно спала. Пахло сеном и тёплой коровой. Последнего поросёнка Параша забила в прошлом году и больше решила хряков не выкармливать — забота большая. Шварц не спал, он думал. Тишина была такой, что если бы куры дышали, то их дыхание он бы наверняка мог услышать даже через внутреннюю амбарную перегородку. Юлик лежал и думал, отчего так случилось, что он полюбил эту женщину, которую даже не успел как следует узнать. Которая родилась и прожила свои годы чёрт знает где, в чужих местах, там, где не пахнет поросёнком, где не говорят по-русски и не едят ничего, не сняв мундир. Где не стесняются говорить о деньгах, не боятся анонимки от соседа и не заставляют учить наизусть клятву пионера, напечатанную на тетрадной обложке. А может, и правда, уехать отсюда насовсем, подумалось ему ни с того ни с сего… К чёртовой матери. Жениться на Тришке и дёрнуть с ней в Англию. А потом и Гвидон подтянется. С Приской. И жить себе там… Писать, выставляться, рожать детей английской королеве… А этих послать. Куда подальше. Нет, это невозможно, достанут и там. Достанут и прикончат, эти могут, они такие. Пусть лучше здесь достают, здесь всё же понятнее. И мать застрелится, если что, эта уж точно такой измены не переживёт. И Гвидон не приедет, Таисию Леонтьевну не оставит, это точно. Бред какой-то…