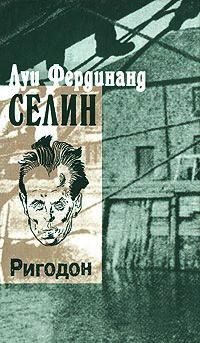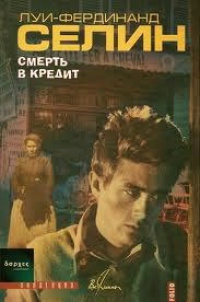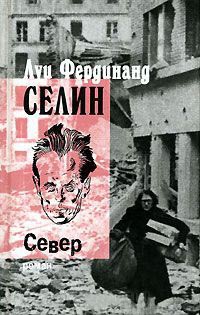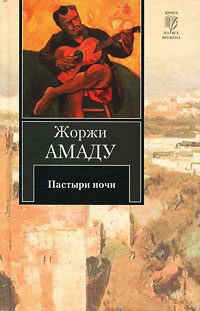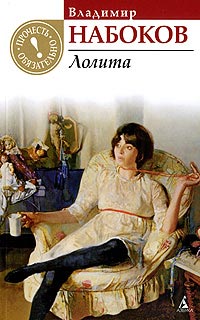Книга Путешествие на край ночи - Луи-Фердинанд Селин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Разумеется, мэтр, эти вопросы страшно меня интересуют.
— В таком случае сообщу вам вкратце, Бардамю, что мой тезис сводится к следующему: до войны человек был для психиатра замкнутым в себе незнакомцем, а возможности его разума — загадкой.
— Таково же и мое скромное мнение, мэтр.
— Видите ли, Бардамю, война, дав нам неоценимый случай для исследования нервной системы, выступает в качестве подлинного открывателя человеческого духа. Последние патологические открытия дают нам столько материала, что мы целыми столетиями будем задумчиво склоняться над ним и страстно его изучать. Признаемся откровенно: до сих пор мы только подозревали, насколько велики эмоциональные и духовные богатства человека. Теперь, благодаря войне, мы это поняли. Мы проникаем путем взлома, болезненного, конечно, но провиденциального и решительно необходимого науке, во внутреннюю жизнь людей. С первых же открытий для меня, Падегроба, стало совершенно ясно, в чем долг современного психолога и моралиста. Необходим полный пересмотр наших психологических концепций. Такова моя точка зрения, Бардамю.
— Я думаю, мэтр, это действительно необходимо.
— А, вы тоже так думаете, Бардамю, вы сами это сказали! Видите ли, добро и зло в человеке взаимоуравновешиваются: с одной стороны — эгоизм, с другой — альтруизм. В избранных натурах альтруизма больше, чем эгоизма. Верно, не так ли?
— Именно так, мэтр, совершенно верно.
— Спрашивается, Бардамю, что же в избранной натуре является тем высшим началом, которое пробуждает в ней альтруизм и заставляет его проявиться?
— Патриотизм, мэтр!
— А, видите, вы сами это сказали. Вы меня прекрасно поняли, Бардамю. Да, патриотизм и его следствие, его подтверждение — слава.
— Верно!
— И заметьте, наши солдаты с самого боевого крещения сумели разом освободиться от всяческих софизмов и побочных соображений, прежде всего от софизмов самосохранения. Инстинктивно и в едином порыве они отождествили себя с подлинным смыслом нашего существования — с отечеством. Чтобы подняться до этой истины, интеллект не нужен; напротив, он этому мешает. Отечество есть истина, живущая в сердце, как все врожденные истины. Народ не ошибается. Именно в том, в чем заблуждается плохой ученый…
— Это прекрасно, мэтр! Непостижимо прекрасно! Как античность.
Падегроб почти нежно пожал мне руки.
И отеческим голосом добавил лично для меня:
— Так я и лечу своих больных, Бардамю: тело — электричеством, дух — усиленными дозами патриотической этики, подлинными вливаниями оздоровляющей морали.
— Понимаю вас, мэтр.
Я действительно все понимал, и все лучше.
Расставшись с ним, я со своими оздоровленными товарищами немедленно отправился к мессе в заново отделанную часовню. По дороге, за входными вратами, я углядел Манделома, который демонстрировал свой высокий нравственный уровень, давая уроки душевного подъема девчонке привратницы. По его приглашению я присоединился к нему.
Во второй половине дня к нам впервые после нашего водворения в этот госпиталь приехали родственники из Парижа; потом они стали приезжать каждую неделю.
Я наконец написал матери. Она была счастлива, что я отыскался, и расскулилась, как сука, которой вернули щенка. Она, без сомнения, воображала, что, целуя меня, помогает мне, но была куда ниже суки, потому что верила словам, которыми ее убеждали отдать меня. Сука, та по крайней мере верит лишь тому, что чувствует. С матерью мы ближе к вечеру медленно сделали большой круг по прилегающим к госпиталю улицам, вернее, будущим улицам с еще не покрашенными фонарными столбами, длинными фасадами еще не просохших зданий, где окна расцвечены жалким тряпьем — постиранными рубашками бедняков — и откуда в полдень доносится треск пригорелого жира, этот отзвук бури дрянных кухонных ароматов. В необъятной и расплывчатой заброшенности пригородов, где ложь парижской роскоши, растекаясь, превращается в гниль, столица показывает тому, кто хочет видеть, свою гигантскую задницу в образе помойки. Там высятся заводы, которые, гуляя, стараешься обходить, потому что от них исходят такие запахи, которые трудно было бы себе представить, если бы воздух и без того не был насквозь пропитан вонью. Поблизости, между двух заводских труб неравной высоты, располагалась маленькая карусель, облезлые деревянные лошадки которой слишком дороги для тех, кто часто целыми неделями мечтает на них прокатиться, — для сопливой, рахитичной, ковыряющей всей пятерней в носу детворы, которую музыка привлекает, отпугивает и удерживает у этого заброшенного и нищего балагана.
Здесь каждый силится отогнать от себя правду, а та возвращается и оплакивает каждого; что ни делай, что ни пей, даже густое, как чернила, красное, небеса над головой, похожие на огромную лужу, по-прежнему затянуты дымом.
На земле грязь истощает ваши последние силы, а сама жизнь кажется стиснутой со всех сторон дешевыми гостиницами и заводами. В этих местах стены как гробы. Теперь, когда Лола ушла, Мюзин тоже, у меня больше никого не было. Потому-то я и написал матери: надо же с кем-то общаться. В двадцать лет у меня оставалось только прошлое. Мы с матерью шли и шли по воскресным улицам. Она рассказывала мне всякие мелочи о своей лавке, о том, что говорят вокруг нее в городе насчет войны, о том, что война — вещь прискорбная, даже ужасная, но что, собравшись с мужеством, мы как-нибудь ее перетерпим, а убитые — это все равно что несчастный случай на скачках: держись хорошенько, тогда не упадешь. Для нее лично война была лишь новым горем, которое она старалась не бередить. Это горе, видимо, пугало ее: в нем было что-то страшное, и она его не понимала. В сущности, она считала, что маленькие люди вроде нее для того и созданы, чтобы от всего страдать, что в этом и заключается их роль на земле и если в последнее время дела идут так скверно, то в основном лишь потому, что они, маленькие люди, в чем-то здорово провинились. Наверняка натворили глупостей, хоть и не нарочно, но тем не менее виноваты и должны быть благодарны уже за то, что им дают возможность искупить страданиями свои недостойные проступки… «Неприкасаемой» — вот кем была моя мать.
Этот покорный и трагический оптимизм был ее религией и сущностью ее натуры.
Мы шли под дождем по улице, разбитой на участки для продажи; тротуар прогибался и уходил из-под ног; на ветках высаженных вдоль него низких ясеней, дрожавших под зимним ветром, висели, подолгу не скатываясь, капли влаги. Убогая феерия! Дорогу к госпиталю окаймляли многочисленные гостиницы-новостройки; на одних уже красовались вывески, другие ими еще не обезобразились. На таких значилось всего одно слово: «Понедельно». Война грубо вытряхнула из них сезонников и рабочих. Они не возвращались даже для того, чтобы умирать. Смерть — тоже работа, но они управлялись с ней на стороне.
Провожая меня до госпиталя, мать все время хныкала. Она не только мирилась с возможностью моей смерти, но даже беспокоилась, приму ли я свой конец так же смиренно, как она. Она верила в судьбу, как в тот красивый метр из Школы искусств и ремесел, о котором всегда упоминала при мне почтительным тоном: в молодости ей рассказали, что метр, служивший ей в ее галантерейной лавке, — точная копия этого великолепного официального эталона. Кое-где между продажными участками на этой опустошенной местности еще уцелели зажатые между новыми домами поля, огороды и даже крестьяне, намертво вцепившиеся в них. Когда вечером у нас оставалось время, мы с матерью ходили смотреть, как эти чудаки упрямо ковыряют железом мягкую зернистую землю, куда бросают гнить мертвецов и откуда тем не менее вырастает хлеб. «А земля-то, наверно, твердая», — всякий раз замечала мать, недоуменно глядя на крестьян. Ей были знакомы только тяготы города, схожие с ее собственными, и она силилась понять, что же за тяготы бывают в деревне. Этого единственного проявления любопытства, которое я подметил за матерью, хватало ей на все воскресенье. С ним она возвращалась и в город.