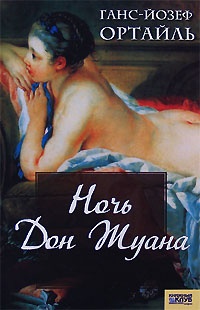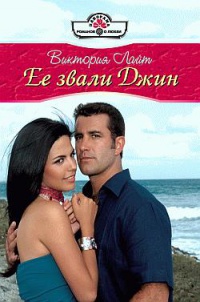Книга Дон Иван - Алан Черчесов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре, хлюпая косолапо по лужам, пришел к нам дрянной месяц март. Как-то, повстречавшись мне у столовой, Долбонос склонился мне к уху и прошипел:
– Не вздумай на праздник тюльпан свой кому поднести! Погубишь всех, сволочь!
Погублю, думал я, причем думал давно.
В ночь перед Женским днем я проснулся от стука в окно. Приподнялся не сразу – затекло под подушкой предплечье. В ладони сжимал я записку, которую намеревался подбросить Юльке за завтраком: “Сегодня урода убью. Тебе мой подарок. Прощай”, подпись внизу: “М-р Хайд”. Когда я подписывался, рука моя дрогнула. Вышло коряво, но переписывать не стал: дрожь застряла в пальцах – не стряхнуть, вот я и пытался примять ее сверху подушкой. Так и заснул. Шансов выжить в бою у меня почти не было, да я, собственно, так и планировал – баш на баш, моя жизнь на его. Альфонс, будь хоть трижды убит, успеет сломать мне хребет. Сил у него, как у борова, а ярости больше. Что хотел я сказать этим “мистером Хайдом”, не очень понятно. Предсмертная записка – документ специфический. Получатель его лишь прикрытие. Подлинный адресат – это автор. Сама же записка есть последний привет миру-в-себе. Шепот из зеркала, прощающегося с уходящей спиной. Если так, то выбор подписи изобличал не только желание спрятаться, увильнуть от назначенной мною же неизбежности, но и подсознательную надежду, что мое второе, зато настоящее “я” непричастно к злодеянию первого. Иными словами, за Хайда бумагу подписывал Джекил. Страсть, как известно, подла. Даже когда сама по себе благородна.
Я проверил матрац. В подкладке хранилось оружие – розочка, горлышко поллитровки, обмотанное изолентой.
Стук повторился. Раньше он не был столь громким. В окне было пусто. За окном – никого. Под окном кто-то лежал. Ничком в мелкой луже. Она растекалась, плоско и тихо, по сторонам. Не было слышно ни звука, потому не слышать свой страх было невмоготу. Я его слышал так громко, что закрыл ладонями уши. Запереть слух руками и смотреть на свой страх сверху вниз – большой труд. К нему оказался я неприспособлен. Страх во мне ликовал. Я поддался ему и вскарабкался на подоконник. Страшнее всего было спрыгнуть – спрыгнуть так, чтобы не наступить. Но это вначале. Было страшней угодить пяткой в пальцы. Однако куда как страшнее было переворачивать мокрое тело на спину. Когда я его обернул, стало ясно, что это как раз и не страшно, потому как страшное было сейчас. Я смотрел Альфонсу в лицо и боялся признать, что вижу в лицо мертвеца. В мертвецах столько крови, что это действительно страшно. Особенно если им приспичит излить ее всю вам под ноги. Но еще страшнее смотреть, как она толкает струю из штанов – там, где торчит из ширинки стекло. А когда узнаете вы в нем осколок бутылки, ужас вас пробирает такой, что кричать благим матом на весь земной шар вам ни капли не страшно. Потом все начинает трястись. Все трясется вокруг, сперва небом, забором и веткой, воткнутой небу в пупок, а спустя только вдох – зажегшейся лампой на входе и топотом ног, голосами трясется и лицами. На следующем вдохе вас глушит удар. Дальше все – темнота. В этой ткани нет швов…
Но, похоже, один все же есть. Новый свет пробивается через него, рвет безжалостно строчку. Из распоротой ткани потемок возникает лоснящийся профиль и говорит:
– Доигрался, паскудник! Отпраздновал. Реставрации не подлежит. Отпыхтел свое хлопец на бабах, отальфонсился. Заражения крови, Карл Карпыч, не будет. Ковырялку себе, почитай, он до копчика проспиртовал. Поллитру всю на хер спустил. В прямом смысле слова.
– Здесь я с вами, голубчик Федор Савельич, согласен. – Белый халат наброшен на плечи пальто. Врач снует, сверкая очками, по узкой палате. Галоши надеты на тапки. Он возбужден. – Склонность к алкоголизму неизбежно приводит к самокастрации.
Дворник хмурится, недовольно отводит свой взгляд и замечает меня.
– Горлодер наш очнулся! В башке-то гудит? Извиняй. Огрел сапогом по-отечески. Да ты б так и так сознание потерял. Встречал я припадочных. Для вас скопытнуться – что человеку зевнуть.
– Как раз с ним все в порядке. Правда, Ванюша? – Гладит мне лоб, теребит за щеку, отвлекая внимание. Сам между тем полуртом добавляет шепотом вбок: – Не надо травмировать психику.
Дворник угрюмо кивает. Врач раздвигает мне веки:
– Глаз не косит, хоть я, шишку узрев, опасался… Ты не стесняйся, поплачь. Такое и взрослого с ног собьет. Дайте-ка я ему нашатырчику на посошок…
Доктор подносит мне к носу тампон. Я вдыхаю, ужаленный холодом в мозг. Плача навзрыд, Любаша сморкается в марлечку.
Карл Карпыч провожает нас с Федором к выходу и сокрушается:
– В кои-то веки скорая скорее меня оказалась. За долгую практику с подобными травмами сталкиваюсь впервые. В Павлодаре на зоне были занятные факты членовредительства. Все больше пальцы и ноги. Иногда – глаза и носы. А вот член повредить даже для членовредителя – нонсенс. Значит, вмешался злой рок. М-да… Навещу через часик в больнице.
– Глядишь, оклемается – тенором станет.
Из процедурной, где предается рыданьям Любаша, доносится наполовину счастливый, наполовину отчаянный всхлип. Врач осаждает дворника взглядом и чуть картаво, как всегда при особом волнении, наставляет:
– Поют, Федохг Савельевич, не голосом и тем паче, пахгдон, не отхгезанным пенисом. Тут душа нужна. И не маленькая. Величиною не с пепельницу, а с океан.
– Снова Севке не фарт. Стало быть, и кастрат из него никудышный.
Когда мы идем через двор, вокруг пятачка под открытыми ставнями библиотеки толпится народ. Я изо всех сил креплюсь, чтоб не вырвать. Мы входим внутрь.
Федор велит мне:
– Отваляйся до ужина. Я директрисе скажу. И приберись тут. Не свежо у тебя. Бумажки чего-то валяются…
Достает у себя из кармана записку. Та измазана кровью. Зашуршав ею, словно банкнотой, он роняет записку на пол.
– Это не я, – говорю. – Я не успел.
Хитро сощурившись, дворник интересуется:
– А успел бы? Успел бы, если б успел?
Говорю, что не знаю.
– А я знаю! – восклицает, вывернув кукиш мне, Федор.
Я лежу на кровати и размышляю. Картина мне в целом ясна. Не хватает деталей. В них в тот же день посвящает меня Долбонос.
– Зря это Севка надумал – брать киоск в одиночку. Никогда ему не прощу, что товарища лучшего кинул. Предал, можно сказать. Вот и кара господня настигла. А то как это так, чтоб споткнулся такой человек? Да и падал плашмя, будто он бутерброд. Неспроста это все. Как считаешь? Предал кореш меня или нет?
Я соглашаюсь:
– И до него дошла очередь. Предал.
Сообразив, Долбонос заходится кашлем и багровеет, кулаком растирает лицо и ревет:
– Ну и сволочь же я!..
– Конечно, ты сволочь.
Спорить я не гожусь. Блинову оно и досадно:
– Сам ты сволочь, сволочь!
Нехватка в словах – опасный симптом. Затевается драка. Для такого расклада у меня кое-что припасено. Я лезу рукою в матрац. Увидев, Валерка таращит глаза. Я смеюсь. Блинов отступает. Заперев за ним дверь, я сажусь у кровати на стул, потом принимаюсь за дело. Резать ремни из одеяла легко, только этим занятием не очень насытишься. Вспарывать брюхо матрацу сытнее. Кусочки ваты – белый пух. К ним добавляются перья подушки. Эта пыльно-летучая взвесь оседает, порошит одежду, осыпает мундиры шкафов, копошится окатышами. Похоже на перекати-поле в пустыне. Моя пустыня – подделка ушедшей зимы. В ней все пересохло. В ней уже нет миражей. Я говорю: “Мои миражи любили стучаться в окно”. Звучит хорошо и правдиво. Пока думаю чистую правду, она на глазах превращается в ложь. Я думаю: он постучался, потому что окно мое ближе к забору. Упал в двух шагах, подполз и успел приподняться. Другой от раны такой рук оторвать бы не смог, а этот вот смог. И даже окно не раскокал – чтоб не наделать лишнего шуму. Шуму наделал потом уже я. Чтобы спасти человека, которого намеревался убить. Про которого знал: ему самому прикончить меня – что клопа раздавить. Я спас его, а он спас меня, освободив от того, чтоб я стал его же убийцей. Но спас я его не затем, что он спас меня. Спас его я со страху. А чего испугался? Недвижного тела в крови? Того, что узнал в этом теле еще не убитое мною убитое тело? Едва ли. Скорее перепугался внезапностью. Что это было? Рок, упомянутый доктором? Одно это слово заставляет меня передернуться от отвращения. Так я думаю правду, а получается ложь…