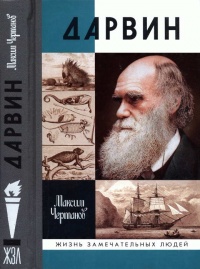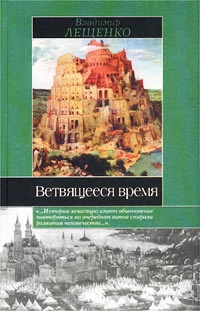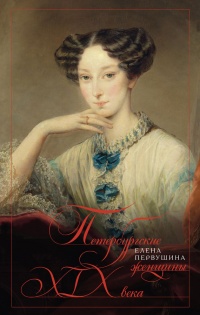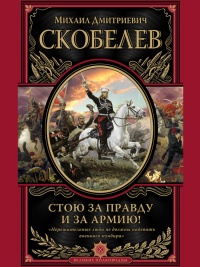Книга Сон Бодлера - Роберто Калассо
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Другая любопытная и случайная деталь: смуглый, почти как у мулатки, цвет кожи лежащей контрастирует в нижней части снимка с белизной простыни и подушки, а в верхней, меж планок мольберта, — с еще более яркой белизной пышных покатых плеч мадам Муатесье. Все это добавляет фотографии призрачности.
12. Мадемуазель Хемли, написанная Эженом Дюрье для Делакруа. Фотография, около 1854 года, Национальная библиотека Франции, Париж
13. Жан Огюст Доминик Энгр. Подготовительный рисунок для картины «Золотой век». Свинцовый карандаш, бумага, рисунок № 2001, Музей Энгра, Мотобан
То, в какой позе изобразил Энгр обнаженную Мадлен, предполагает существенное отступление от традиционного живописного канона. Обнаженная женщина, возлежащая на подушках, — повторяющийся сюжет, который мы встречаем в картинах «Спящая Венера» Джорджоне, «Венера Урбинская» Тициана и «Олимпия» Мане. Во всех трех работах, несмотря на стилистические различия, просматривается кое-что общее: на лобке лежит именно левая рука — тогда как правая закинута за голову (у Джорджоне) или опирается на подушки (у Тициана и Мане). Левая грудь изображена в профиль, что создает ощущение, будто мы смотрим на фигуру сбоку. Внешне Энгр следует канону двух своих великих предшественников (Джорджоне и Тициана; Мане напишет свою «Олимпию» десятью годами позже, уже после появления дагеротипа картины). В основном он продолжает линию Джорджоне, из работы которого взяты три элемента: закрытые глаза, рука, закинутая за голову, и другая на лобке. Однако, отходя от канона, Энгр переворачивает фигуру. В результате на животе лежит правая рука, а за голову закинута левая. Кроме того, обе груди написаны фронтально, а рельеф, выделяющийся на темном фоне, образован плечом и рукой, лежащей на правом бедре. Обе Венеры — и Джорджоне, и Тициана — и тем более Олимпия Мане не отгораживаются от мира и не отвергают его. Венера Урбинская и Олимпия готовы к контакту с любым, кто войдет к ним в комнату; Венера Джорджоне способна пробудиться ото сна и приметить забредшего в ее владения странника. Мадлен Энгра, в противоположность им, своей позой напоминает карточную фигуру, замкнутую в себе и не желающую видеть мир сквозь смеженные веки. Лишь мягкому, рассеянному свету подставляет она свое тело, и кажется, будто за сбитыми простынями ее ложа — не комната, а пустота. Можно сказать, что на этот раз Энгр попытался избавиться, ни много ни мало, от пространства. В картине нет ни безмятежного пейзажа Джорджоне, ни тициановской просторной залы, в глубине которой две женщины роются в огромном сундуке; нет даже тесного темного алькова, в котором Олимпия ожидает своих клиентов. Это исключительно встреча женского тела (представленного до середины бедер, притом что сама картина, по-видимому, имела в ширину больше метра) и охватывающего его взгляда.
14. Зал Энгра на Всемирной выставке 1855 года. Фотография неизвестного автора, Национальная библиотека Франции, Париж
Если вокруг утраченного ню Энгра, сфотографированного Дезире-Франсуа Милле, убрать раму, мольберт и фрагмент портрета мадам Муатесье на заднем плане, то изображение обнаженного тела Мадлен Шапель можно было бы вполне принять за дагеротип, подобный тем, на которых фотограф Дюрьё запечатлевал некоторых натурщиц, например прославленную мадемуазель Амели; фото последней вошло в альбом, составленный Дюрьё для Делакруа, она стала прообразом «Одалиски», написанной художником в 1857-м. Таким образом, эта картина Энгра могла стать фотоматериалом для Делакруа, и два смертельных врага оказались бы связаны через призрачный образ первой жены Энгра, а жест мадемуазель Амели в образе одалиски Делакруа (закинутая за голову рука) мог быть повторен Энгром на рисунке номер 2001.
На Всемирной выставке 1855 года были представлены сорок три картины Энгра, приклеенные, словно марки, вплотную друг к другу — как тогда было принято. «Большая одалиска» была придавлена к самому низу стены закованной в доспехи розовощекой «Жанной д’Арк»; почтенная мадам Гонс оказалась под оголенными прелестями Венеры Анадиомены, а Керубини и мсье Бертен — под тяжелым «Апофеозом Наполеона I»; затем перед зрителем представала спина «Купальщицы Вальпинсона», рифмующаяся с округлым животом юной Венеры. Дойдя в своих рассуждениях о выставке до полотен Энгра, Бодлер сразу же ввел в оборот прилагательное «разношерстный», добавив, что Энгр пользуется «огромным и неоспоримым признанием»: он словно намекал на то, что признание это, при всей своей прочности и широте, основано на радикальном непонимании. Бодлер уточнял, что Энгр порождает ощущение «разношерстности, причудливости куда более таинственной и сложной, чем та, что отличала живописную школу эпохи Республики и Империи, с которой, однако, он начал свои путь». Иначе говоря, этот художник, отныне почитаемый всеми — дворянством, буржуазией, академиками, — был самым странным порождением мира живописи со времен Давида, этого «холодного светила», который, уже будучи загадкой сам по себе, вдохновлял и других художников на то, чтобы помещать своих вымышленных персонажей в «зеленоватое освещение, эту странную интерпретацию солнечного света». Странность Энгра была столь велика, что, вступая в «храм его творений», зритель испытывал какое-то диковинное «недомогание», похожее на обморок, который происходит с человеком «в разреженным воздухе, среди паров химической лаборатории или же в фантасмагорической обстановке». Этих слов достаточно, чтобы увести нас прочь от любой природы. И все же разговор идет о художнике, который к этой самой природе не переставая обращался. Впрочем, никто не утверждал обратное. Меж тем Бодлер пишет о «фантасмагорической обстановке», впервые вводя в тексте о живописи это прилагательное (вся ирония в том, что текст касается Энгра). Прилагательное не предвещает ничего хорошего; и действительно, далее в тексте говорится о том, что действие происходит среди «людей-автоматов, смущающих наши чувства своей чересчур явной и ощутимой чужеродностью». Ни дать ни взять толпа мутантов; но ведь речь идет о персонажах Энгра: это дамы из буржуазного или благородного общества, выдающиеся мужи, богини и герои истории. Даже все написанное Бодлером о рассказах По звучит менее тревожно, чем эти слова. Речь идет о «сильном впечатлении», являющемся, в сущности, проявлением первобытного ужаса. Это не возвышенное чувство, порожденное произведением искусства. Нет, это ощущение «низшего, почти нездорового порядка». С вершин «прекрасного идеала», о котором еще твердили скромные эпигоны Винкельмана, тогда еще облеченные властью (Бодлер по их поводу восклицает: «Сколько их теперь у нас развелось и до чего же они пришлись по душе тем, кому лень думать!»), мы летим в пучину психопатологии. Как это объяснить? Бодлер высказывает смелое предположение: неоспоримая сила Энгра — следствие ущербности. Его живопись является предвестником весьма прискорбного факта: «воображение — главное из всех дарований — исчезло». Этим Бодлер сказал достаточно, чтобы сбить с толку не только своих современников, но и сегодняшнего читателя. Однако он делает еще один провокационный шаг: сближает Энгра с тем, кто с ним меньше всего сопоставим, — с грубоватым, завораживающим Курбе. Что же между ними общего? Их произведения своеобразны тем, что «отмечены сектантским духом, убийственным для таланта». Расширяя круг ассоциаций, Бодлер переходит от психопатологии к политике. Так, Энгр и Курбе являются предвоплощением русских нигилистов и агентов «охранки» — преследующих различные цели, но использующих одинаковые средства. Ведь в живописи важны главным образом средства: «В своей борьбе с воображением они повинуются различным мотивам; и два противоположных фанатизма приводят их к одной и той же жертве».