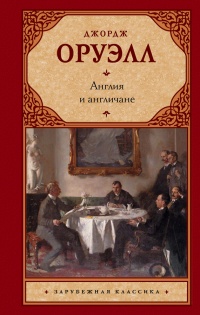Книга Славно, славно мы резвились - Джордж Оруэлл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несомненно, Йейтс был в своих верованиях нетверд, мнения его с течением времени менялись, иные из этих мнений были просвещенными, другие – нет. Мистер Менон прилагает к ним автохарактеристику Элиота, утверждавшего, что он проделал более длительный путь развития, нежели любой иной из поэтов за всю историю мировой литературы. Но одна черта оставалась, кажется, неизменной, по крайней мере, насколько я могу судить по тем его сочинениям, что приходят мне на память; это его ненависть к современной западной цивилизации и стремление вернуться в бронзовый век либо, возможно, в Средневековье. Подобно всем мыслителям той же направленности, он склоняется в своих писаниях к восхвалению невежества. Дурак из его примечательной пьесы «Песочные часы» – это честертоновская фигура, «юродивый», «простак – естественный человек», который всегда мудрее мудреца. Философ-мудрец в этой пьесе умирает, признавая, что вся его жизнь, проведенная в размышлениях, прошла впустую (я вновь цитирую по памяти):
Прекрасно сказано, но в основе – обскурантизм и реакция; ибо если и на самом деле правда то, что деревенский дурак как таковой мудрее философа, то тогда лучше бы люди не изобретали алфавита. Разумеется, любое восхваление прошлого – это отчасти дань сантиментальному чувству, потому что сами-то мы в прошлом не живем. Бедные не восхваляют бедность. Чтобы появилась возможность презирать машину, машина для начала должна освободить вас от грубого физического труда. Это я не к тому, что порыв Йейтса к более примитивным и иерархически упорядоченным формам жизни был не искренен. Сколь много в нем от простого снобизма, а что вытекает из собственной позиции Йейтса как наследника по боковой линии обнищавшего дворянского рода, – вопрос иной. И связь между его обскурантистскими взглядами и стремлением к языковому «изыску» пока не выявлена; мистер Менон лишь походя задевает эту тему.
Книга его весьма невелика по объему, и мне от души хотелось, чтобы мистер Менон на ней не останавливался и написал еще одну книгу о Йейтсе, начав с того места, где обрывается нынешняя. «Если величайший поэт современности предается столь возвышенным звукам во времена фашизма, то это представляется весьма тревожным симптомом», – пишет автор на последней странице и на этом ставит точку. И это тоже весьма тревожный симптом. Ибо этот пример далеко не единичен. То и дело лучшие писатели нашего времени высказывают реакционные взгляды, и, хотя фашизм не предлагает никаких реальных путей возврата к прошлому, те, кто по прошлому тоскует, примут идеи фашизма скорее, нежели идеи его возможных оппонентов. Но, как показали последние два-три года, имеются и другие пути. Взаимосвязь фашизма и художественной интеллигенции – проблема, остро нуждающаяся в исследовании, и начинать вполне можно с Йейтса. Наилучший подход к нему находят те, кто, подобно мистеру Менону, видит в поэте прежде всего поэта, но в то же время осознают, что политические и религиозные убеждения писателя не какой-то нарост на теле литературы, над которым можно лишь посмеяться, но нечто такое, что проницает все поры поэтического организма.
«Хорайзон», январь 1943 г.
Около года назад я оказался в Индии, участвуя в составе группы соотечественников в цикле радиопередач, и наряду с другими предметами мы много говорили о творчестве современных или почти современных английских поэтов – например, Элиота, Герберта Рида, Одена, Спендера, Дилана Томаса, Генри Триса, Алекса Камфорта, Роберта Бриджеса, Эдмунда Бландена, Д. Г. Лоуренса. По возможности мы приглашали к микрофону самих авторов стихов. Почему в Индии было решено провести именно эти передачи (небольшой и сугубо окраинный фронт радиовойны), обсуждать здесь нужды нет, и я бы только заметил, что сам факт обращения к индийской аудитории до известной степени диктовал формы этого обращения. Главное тут заключается в том, что передачи предназначались студентам индийских университетов, то есть узкой и враждебно настроенной аудитории, принимавшей в штыки все, что хотя бы условно может быть охарактеризовано как британская пропаганда. Заранее было понятно, что слушателей у нас будет в лучшем случае лишь несколько тысяч, и это оправдывало более «высоколобый» стиль, нежели то принято в эфире.
Если читаешь стихи людям, знающим твой язык, но чуждых твоей культуре, некие комментарии и пояснения неизбежны, и формат, которому мы обычно следовали, заключался в том, чтобы читать стихи, как бы предназначенные для публикации в ежемесячных литературных журналах. Предполагается, что сотрудники сидят у себя в редакции и обсуждают, что поставить в текущий номер. Кто-то предлагает одно стихотворение, кто-то другое, затевается недолгий спор, а потом следует само стихотворение, которое читает то ли участник передачи, то ли, желательно, сам автор. Одно стихотворение естественно тянет за собой следующее, и программа так и идет, прерываясь по меньшей мере на полминуты, чтобы поговорить о прочитанном. Для получасовой программы оптимальное количество участников – шесть. Такого рода передача четкой формы с неизбежностью лишена, но все же видимость некоторого единства ей придать можно, сосредоточившись на какой-то одной центральной теме. Например, один из выпусков нашего воображаемого журнала был посвящен войне. В него вошли два стихотворения Эдмунда Бландена, «Сентябрь сорок первого» Одена, отрывки из поэмы Дж. С. Фрэзена «Письмо Анне Ридлер», «Греческие острова» Байрона и отрывок из «Восстания в пустыне» Т. Э. Лоренса[65].
Полдюжины отрывков плюс комментарии, им предшествующие и их заключающие, с достаточной полнотой отражают возможные типы восприятия войны. Чтение стихов и фрагментов прозы заняло двадцать минут эфирного времени, комментарии – около восьми минут.
Формат может показаться несколько вычурным, да и не слишком демократичным, но достоинство его состоит в том, что элемент обыкновенной назидательности, стилистика учебника, которая совершенно неизбежна при чтении серьезных, а иногда и «трудных» стихов, становится не столь назойливым, если придать передаче форму свободной дискуссии. Различные ее участники якобы говорят друг другу то, что в действительности адресуют аудитории. К тому же представленная в таком виде поэзия как минимум обретает контекст, который обычно скрыт от рядового читателя. Хотя, конечно, возможны и иные сценарии. Один из них – к которому мы часто прибегали – состоит в том, чтобы наложить стихи на музыку. Объявляется, что через несколько минут будет прочитано то или иное стихотворение, затем примерно с минуту звучит музыка, она постепенно заглушается чтением, которое начинается без специального оповещения (не объявляется и название стихотворения), далее снова звучит и продолжается минуту-другую музыка – на все про все примерно пять минут. Надо, конечно, подобрать верную музыку, но нет нужды говорить, что истинное ее назначение заключается в том, чтобы выделить стихотворение в общем формате передачи. Таким образом можно, скажем, заверстать сонет Шекспира в трехминутный выпуск новостей, не сильно нарушив при этом – по крайней мере на мой слух – общего звучания.