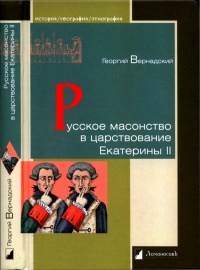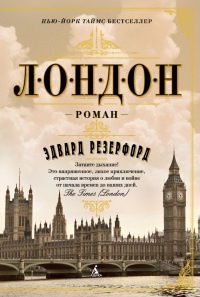Книга Русское - Эдвард Резерфорд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И действительно, до страшной своей гибели царь-реформатор ослабил некоторые ограничения в отношении евреев в Российской империи. Так что подавляющее большинство евреев в то время было настроено консервативно и за царя.
Но с толпой не поспоришь. Люди, окружившие их, сожгли за неделю до этого несколько еврейских домов в Переяславе и теперь разъезжали по окрестным деревням ради подобной же потехи.
– Пора начинать! – рявкнул кто-то. Послышался смех. Огромный мужик с рыжей бородой, в сопровождении маленького старичка, подошел к отцу Розы. Она в ужасе оглянулась – ей хотелось закричать.
И в этот момент в десяти саженях от них на улицу со стуком выехала ладная повозка, на ней были те же Тарас Карпенко и его сын Иван.
– Слава богу, – услышала Роза шепот матери. – Он может спасти нас.
Внушительного вида казак спокойно и неторопливо подъехал к толпе, и она расступились, пропустив его прямо к семье Розы. Пышные усы, могучая фигура… Тарас производил впечатление властного человека. Спешившись, Тарас остановился перед рыжебородым мужиком и вопросительно посмотрел на него.
– День добрый, – вежливо поздоровался он. – Что тут у вас стряслось?
Мужик посмотрел на казака и пожал плечами:
– Ничего особенного. Просто хотим проучить этого еврея.
Карпенко задумчиво кивнул и спокойно заметил:
– Он хороший человек.
«Слава богу, слава богу, что у нас такой большой и сильный защитник, – с благодарностью подумала Роза, посмотрев на него. – Он скажет этим людям, чтобы они разошлись и занялись своими делами». Она почувствовала такое облегчение, что на какое-то мгновение перестала прислушиваться к разговору.
– Он все-таки еврей, – возразил рыжебородый.
– Это верно. – Могучий казак оглянулся на стоявших вокруг. – Что вы собираетесь делать?
– Поколотить его, а хату сжечь.
Карпенко кивнул и, грустно посмотрев на отца Розы, произнес:
– Боюсь, друже, плохо ваше дело.
О чем он говорит? Ничего не понимая, Роза уставилась на него. Что он имел в виду? Друг ее отца, человек, с детьми которого она играла в казаки-разбойники, – разве он не поможет им? В изумлении она увидела, как он, сев в повозку и натянув поводья, направил свою лошадь на выезд из села.
Казалось, перед ее глазами сгустился туман, ее вдруг затошнило, и перед ней разверзлась огромная холодная пропасть, о существовании которой она и не подозревала, бездонная как океан.
Он был на стороне этих людей.
– Отец! – Это был голос молодого Ивана. Моргнув, Роза сквозь пелену слез посмотрела на него. Юноша был бледен и дрожал – он во весь рост стоял в повозке. Пусть тонкий и хрупкий, он, казалось, излучал какую-то необычайную силу. Он смотрел на своего отца сверху вниз. – Отец! Так нельзя!
И Тарас остановил повозку.
Медленно, неохотно Карпенко повернулся к большому мужику с рыжей бородой.
– Я их с собой забираю, – хрипло сказал он.
– Нас пятьдесят человек, казак, – крикнул старичок. – Ты ничего не можешь сделать.
Но Тарас Карпенко, хотя и оглянулся на толпу, только покачал головой. Затем, снова повернувшись к рыжебородому, он не без смущения сказал:
– У меня перед ним должок есть, – и жестом пригласил Розу и ее родителей забраться в повозку.
– Называешь себя казаком, любитель евреев? Мы и твою хату сожжем! – крикнул старик. Но никто не помешал Абрамовичам сесть в повозку.
– Боюсь, ваш дом сожгут, – как о чем-то неизбежном сказал Карпенко отцу Розы. – Ну хоть вы целы. – Затем он дернул поводья, и повозка медленно покатила по улице.
Когда они выехали из села, Роза оглянулась. Толпа была занята тем, что разбивали окна дома. Старик с зажженным факелом вошел внутрь. «Они сожгут мое пианино, – подумала она, – пианино, на которое отец целый год откладывал деньги». Она посмотрела на отца. Он сидел в повозке и его по-прежнему била дрожь. В его глазах стояли слезы, а ее мать обнимала его. Роза никогда раньше не видела отца плачущим, и в те минуты ей казалось, что невозможно любить сильнее, чем она любила его.
Затем ее мысли вернулись к Ивану Карпенко. Он спас их. Пока она жива, сказала она себе, она этого не забудет.
Но она также не забудет его отца, их друга. Он бы так их и оставил там. И ей вспомнилось, что однажды сказал ей отец: «Учти, Роза, еврей никогда не сможет никому доверять. Во всяком случае, полностью».
Она и это запомнит.
1891, декабрь
Николай Бобров сказал себе, что слишком волноваться не стоит.
Надо признать, что сообщение от отца, конечно, встревожило его. Он также почувствовал укол вины. «Но когда я туда доберусь, все станет приемлемо», – рассудил он и вздохнул.
Ему предстоял долгий путь. Пока крытые сани везли его по широким улицам Санкт-Петербурга к вокзалу, Николай с удовольствием посматривал вокруг. Он любил этот мощный город. Даже в такой серый день, как этот, от города исходило какое-то сдержанное сияние. И следует отметить, что и сам Николай производил более чем благоприятное впечатление.
Как и любой джентльмен западного мира, он носил сюртук, несколько более короткий, чем было принято в предыдущие десятилетия, с единственным разрезом сзади и двумя маленькими пуговицами на пояснице, обтянутыми материей. Брюки у него были довольно узкие, из очень плотной ткани, и поколению помоложе они могли бы показаться весьма небрежного вида, так как мода заглаживать на брюках стрелки еще не вошла в обиход. Его ботинки были начищены до блеска. На жилете у него висела золотая цепочка от карманных часов. Его рубашка была белой с жестким съемным воротником, на шее – узкий шелковый галстук в горошек, завязанный свободным бантом, что придавало Николаю отчасти артистичный вид. Единственными чисто русскими предметами его одежды были большая шинель с меховым воротником, которую он расстегнул внутри крытых саней, и меховая шапка, лежавшая на сиденье рядом с ним.
Николаю Боброву было тридцать семь лет. Его волосы и аккуратная остроконечная бородка, которую он холил, преждевременно поседели. Его нос, казалось, стал еще более орлиным; но морщин на лице было мало, и оно все еще казалось таким же открытым, как когда он был студентом и агитировал крестьян своего отца за новую жизнь.
Какими далекими представлялись те дни. В настоящем Николай был семьянином. У него были сын Михаил, названный так в честь деда, дочь, а в прошлом году родился еще один ребенок, мальчик, которого назвали Александром. Если бы теперь его спросили о политике, он, конечно, ответил бы в общих чертах: «Я либерал».
Если революционный пыл его студенческих лет довольно быстро угас, то в этом нет ничего неудивительного. Николай никогда не забывал унижения, испытанного им в 1874 году. Вскоре после того он признавался: «Крестьянам это было неинтересно». Он и себя чувствовал так, будто Попов его обманул. «Он был просто авантюристом, сделавшим из меня дурака», – сказал он родителям. А несколько лет спустя, когда террористы убили царя, он только грустно покачал головой. «Даже царь лучше хаоса», – заявил он на сей раз. К этому он добавлял: «Когда-нибудь Россия станет свободной и демократичной, но, по правде говоря, мы к этому еще не готовы. Это случится не раньше чем через поколение; может быть, через два».