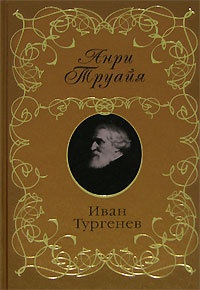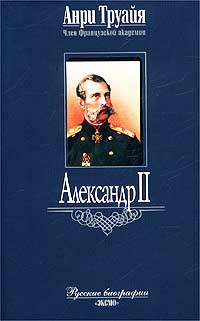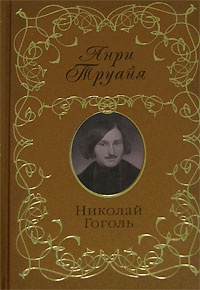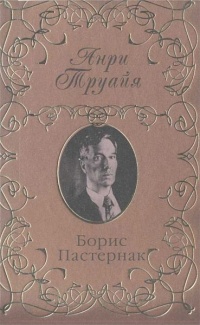Книга Марина Цветаева - Анри Труайя
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Марина старалась успокоить и того, и другую. Она верила в свою счастливую звезду, а к тому же Крым, который она видела сейчас своими глазами, доказывал, что в России хоть где-то еще можно жить спокойно. Казалось, местные татары игнорируют большевистскую заразу. Они не читают газет и продолжают соблюдать древние обычаи своего народа. И раз уж благоразумие взяло верх здесь, почему бы, в конце концов, ему не взять верх и в других местах?
Сергей, со своей стороны, спешил присоединиться к своим «товарищам по оружию» на Дону. Посадив его в поезд, Марина сама стала готовиться в дорогу. Волошин и не старался удержать ее. Но, проводив до рыдвана, который должен был отвезти Цветаеву на вокзал, произнес:
«– Марина! – Максина нога на подножке рыдвана. – Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг.
Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала»,[72] – вспоминает Марина Цветаева в 1933 году. А тогда она только послала прощальную улыбку этому очаровательному предвестнику несчастий…
Путешествие по железной дороге обошлось без приключений. Вернувшись домой, в Москву, Цветаева убедилась, что и тут в ее отсутствие все было хорошо, начала активно готовиться к окончательному переезду вместе с двумя дочками в Крым, где их ждали Макс и Пра, но… Но страшные события опередили их: буквально за несколько дней война между красными и белыми приняла такой накал и так распространилась по территории России, что какая бы то ни было поездка стала невозможной. В полном соответствии с пророчествами Макса, которым в свое время она не придала значения, страна оказалась разрубленной надвое. И попытка в разгаре этой гражданской войны перебраться из одной России в другую была бы столь же дерзкой и рискованной авантюрой, как намерение перейти линию фронта, разделявшую Россию с Германией. Все средства коммуникации бездействовали. И Марина с ужасом поняла, что находится с двумя маленькими девочками в городе, оккупированном большевиками, в то время как ее муж и отец девочек за тысячу километров от них ожесточенно сражается с этими же большевиками. Пленница красных, лишенная всякой поддержки, не обладающая никаким практицизмом, буквально раздавленная своей материнской ответственностью, она должна была предпринимать поистине нечеловеческие усилия, чтобы выжить, не имея надежд ни на что, кроме вдруг да прорвавшегося неожиданно в город письма от Сережи или – столь же проблематичного – успеха одного из будущих стихотворений. Но кто во время такой братоубийственной войны станет интересоваться поэзией всеми покинутой молодой женщины? И вдруг она подумала об Андре Шенье, который, как и она сама, стал жертвой слепого политиканства. Пристыженная видением этого собрата по перу, которого и в бедствиях не оставляло вдохновение, она на свой лад поприветствовала его:
Однако ей казалось, будто благодаря Богом посланной нелепости своей в этих условиях, благодаря небесной неосознанности того, что делаешь, именно поэзия, работа духа может стать спасительным лекарством. Вот оно, исцеление, – рядом, под рукой, на кончике пера… Никакой наркотик не даст такого опьянения, какое способны дать ритмы, мечты… Взгляд молодой женщины блуждал от девочек к тетрадкам, и внезапно на нее снизошло озарение, и она подумала: в конце концов, я не так одинока и не в таком плачевном положении, как мне казалось, раз у меня остается моя Поэзия.
Церковные купола все так же горели на солнце, в гостиных и редакциях газет точно так же болтали о пустяках, чтобы не надо было говорить о важном, ничуть не изменился звук родного русского языка, доносившийся с любого угла любой улицы, Москва осталась прежней, но у Марины было четкое ощущение, что она как-то не совсем в России сейчас живет. Может быть, потому, что царская символика исчезла с фасадов зданий и витрин магазинов? Испуганные буржуа и мещане прятались, словно в чем-то виноваты, даже не знакомые друг с другом люди обращались к случайному собеседнику, непривычно именуя его «товарищем», рабочие ходили гоголем – еще бы, положение-то привилегированное, пролетарская фуражка стала вроде короны, каждый день новый декрет правительства обрушивался на головы ошеломленных и растерянных граждан… Конечно, ноябрьские 1917 года выборы в Учредительное собрание принесли социалистам-революционерам (эсерам) победу над большевиками, которым удалось получить лишь 24 процента голосов, но Ленину было наплевать на эти устаревшие, по его мнению, и пустые соображения. В декабре того же года он объявил в очередном манифесте, что интересы Революции законны даже тогда, когда они противоречат решениям Учредительного собрания. После бурного обмена мнениями он приказал запретить несогласным с ним депутатам вход в зал собраний, хотя все они были избраны на совершенно законных основаниях и составляли большинство этого парламента. Таким образом, добрая воля народа оказалась воплощенной в одном-единственном человеке, которого даже не избирали вождем его сограждане, и эта «добрая воля» заменила собою добрую волю монарха, законность владычества которого покоилась на династическом наследственном праве. Подобная чистка отражала поистине диктаторскую жестокость. И никто не осмелился высказаться против доводов более сильного, чем он сам. Многочисленные интеллектуалы, поспешившие перебежать на сторону новой власти, верили даже (или притворялись, будто верят), что в лице Ленина победил рабочий класс в целом и что благодаря ему Россия выйдет наконец из эпохи сумерек, чтобы подняться, как Франция 89-го года, на высоты духа.
Когда Маяковский, Блок, Белый, Брюсов уже выразили от всего сердца солидарность с новыми хозяевами страны, Марина Цветаева еще не знала, к какому берегу причалить. Всегдашний отказ признать любую официальную власть священной, казалось бы, должен был заставить ее примкнуть к крайне левым, но она приходила в ужас от лавины декретов, которые Ленин с хладнокровием опытного специалиста по сносу зданий обрушивал на страну и ее население. Ни одна организация, ни одно учреждение, какими бы почтенными они ни были, не выдерживали ударов молота этого неистового пророка. Первой его заботой стало создание политической полиции – Чрезвычайная Комиссия, знаменитая ЧК, должна была выслеживать, выявлять и уничтожать врагов коммунизма. Началась эпоха доносов. Один за другим «настоящими патриотами» выдавались чекистам процветающие промышленники, мирные землевладельцы – как помещики, так и просто зажиточные крестьяне, священнослужители, офицеры, чиновники, занимавшие при царе высокие должности, писатели, вызывавшие подозрение своими взглядами… Их приговаривали к смертной казни, даже не дав времени найти себе защитника. Достаточно было распущенного по кварталу слуха, гнусной сплетни – и расстреливали или в лучшем случае высылали всякого, кто осмелился, например, легкомысленно отнестись к священной непогрешимости Советов. Обыски, конфискации имущества, грабежи, ссылки превратили Россию в огромный концентрационный лагерь, где каждый шпионил за соседом и где каждый дрожал от страха: а вдруг на рассвете постучат именно в его дверь. Вполне ведь могут узнать, что муж Марины – офицер Белой гвардии… Достаточно чьей-то несдержанности, достаточно перлюстрации любого письма контрольными службами! Со времени отъезда Сергея из Крыма она не получила от него ни единой весточки. Он погиб? Или жив? Как узнать об этом, если твои розыски наверняка привлекут к тебе недоброжелательный интерес чекистских информаторов? Лучше уж втянуть голову в плечи, жаться по стенам и молчать. Ждать.