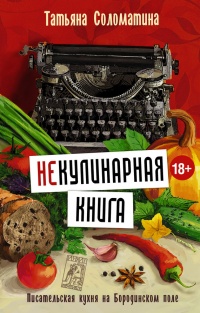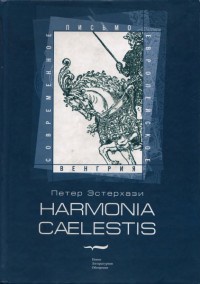Книга Гуляш из турула - Кшиштоф Варга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В купальне имени Комьяди[81], куда я хожу зимой, я всегда выбираю шкафчик, который мне легко будет запомнить, — не по номеру, который тотчас забываю, а по надписям. Поэтому в раздевалке я кладу одежду в шкафчики со звездой Давида, или с каракулями «Hajrá Vasas!», или «А kurva anyád». В каждом живом языке существует тяга к лаконичности. Также и в венгерском, хотя вот это сокращение имеет иной оттенок, чем в польском. В Венгрии говорится просто «anyád», то есть «твою мать» — и все ясно: можно обижаться, бить, посылать куда подальше в ответ. Подробности не нужны: достаточно сказать «твою мать» — и всем все понятно.
Люблю венгерскую брань; она, разумеется, неотъемлемая часть повседневного языка, но произносятся венгерские ругательства, как правило, без агрессии. Попросту в ткань повествования вплетается неустанное «baszd meg»[82], и разговор течет дальше. О футболе, политике, рыбной ловле и погоде. Есть в этом «baszd meg» какая-то отрешенность, печаль, примирение с футбольными неудачами, политическим сумбуром, невозможностью поймать рыбу и с проливным дождем.
Иногда я выбираю шкафчик с надписью «Geci cigány haza». «Цыган-спермопроизводитель, убирайся домой» — хорошо, но куда, собственно, убираться? В 1956-м на стенах писали «Russzkik haza» — «Русские, домой!». Они пошли — сорок лет спустя, но пошли, потому что у них был свой дом. А куда идти цыганам, в какую страну? В Индию?
В старом Будапеште мне больше всего по душе Табан, потому что его уже не существует. Довоенный квартал одноэтажных домиков, отлого спускающийся по направлению к реке, зажатый между Замковым холмом и горой Геллерта, он был снесен в тридцатых годах, и сегодня на его месте — обычный парк. Сохранилось только название. Прежде там жили сербы, была сербская церковь, над Дунаем крестили в православие.
Здесь был Рацварош, Сербский город, от которого осталось только название купальни — «Рац», — на месте которой строят отель. Не существует больше и «Рац керт», «Сербского сада», обычного кабачка с пивом в пластмассовых стаканчиках, где летом было тесно, молодежно, алкогольно и весьма симпатично. Нынче пьют в восстановленном еврейском квартале. Мертвый район истребленного народа оживает, как краковский Казимеж[83], благодаря модным ресторанчикам с дешевым пивом. Сербский город уже не оживет; нынче сербы — у себя, в Сербии, в Суботице, в Нови-Саде, колотят венгерскую молодежь, чтобы помнила, что живет в Великой Сербии, хотя венгерская молодежь знает, что живет в Делвидеке, на Южных Землях, и ходит в школу в Сабадке и Уйвидеке, а не в какой-то там Суботице и Нови-Саде.
Будапешт — город прошлого, расцвет которого случился сто лет назад; самые прекрасные его цветы распустились на рубеже XIX и XX веков. И по сей день эти цветы — засушенные в вазе, где давно нет воды, — главная приманка и украшение города. Трудно представить себе будущее Будапешта, оно ему как бы не полагается. Конечно, появились превосходные торговые центры, которых не было в 1896 году; есть планы строительства целого жилого и развлекательного квартала по будайской стороне моста Ладьманьоши, над Дунайским заливом; администрация VIII района собирается построить на задворках кинотеатра «Корвин» новый небольшой город в городе; но все это тонет в завалах прошлого: вроде как должно что-то происходить, но ничего не происходит, ничего не видать. Это прошлое разрастается все шире и пожирает все новое. Центр Будапешта, в отличие от Варшавы, так плотно застроен, что в нем не осталось места для высоток, административных и жилых новостроек. В этом городе не выросли ни жуткие, в несколько десятков этажей, стеклянные башни, ни бессмертные коробки временных построек. Новое — ни в версии high-tech, ни в виде посткоммунистических времянок — не обезобразило кварталов эпохи модерна. Варшаву будущего можно представить себе любой, тут возможно все; раздумывать о Варшаве будущего — все равно что в компьютерной игре создавать новую цивилизацию, какую-нибудь антиутопию, диковинный город-свалку. Будапешт невозможно вообразить себе иным, не таким, каким он выглядит сегодня. Поэтому настоящее Будапешта — это его покрытое пылью прошлое.
Истинный Будапешт запечатлен на снимках Мора Эрделай и Дьёрдя Клёса. Между 1896 годом, когда праздновалось тысячелетие мадьярской истории, в честь чего была организована специальная выставка и построено первое в Европе метро[84], и 1914 годом, когда для Венгрии начался очередной конец света, Будапешт расцветал на фотографиях, даже на тех, которые обнажали его нищету и уродство. Площадь Колоши в Обуде, сегодня — в паре минут езды семнадцатым трамваем или автобусами номер шесть, шестьдесят и восемьдесят шесть от моста Маргариты, а сто лет назад — городская окраина, на снимке Клёса похожа на рынок захудалого местечка. В центре виден длинный одноэтажный дом с кафе Гуттлера; такие дома — плоть всех провинциальных местечек и предместий больших городов. На улице Лайоша рядом с площадью Колоши сегодня — он находился бы где-то в правом верхнем углу фотографии — винный погребок «Малиган», где венгерский средний класс смакует вина на «боркоштолаш», то есть дегустации, и во время «борвачора» — ужина с вином. В «Малигане» найдутся вина из всех наиважнейших регионов: из Виллани, Эгера, Сексарда, Шопрона, — ну и белое с Балатона. Здесь представлены все основные производители: Bock, Gere, Takler, Vesztergombi, Thummerer, Weninger, Vylyan. Да, есть тут люди, которые разбираются в вине. «Малиган» — это несбывшийся сон Белы Хамваша[85], который в своей «Философии вина» посвятил напитку меланхоликов прекраснейшие страницы.
Меланхолией явно страдала и семнадцатилетняя Чилла Мольнар, Мисс Венгрия 1985 года, годом позже покончившая с собой в своем доме. За несколько месяцев до этого она заняла третье место в конкурсе «Мисс Европа». На архивных кадрах парада кандидаток на титул «Мисс в купальном костюме» Чилла крутит бедрами, как подобает, но на ее лице нельзя заметить хотя бы тени принужденной улыбки. Чилла лежит на кладбище в Капошваре, городе, где родилась в 1969 году и куда вернулась после смерти; самоубийство она совершила в Фоньоде, классическим способом — наглотавшись снотворного.
Когда я вхожу в ворота кладбища в Капошваре и спрашиваю мужчину, сидящего в будке у шлагбаума, как найти ее могилу, тот, ничуть не удивившись моему вопросу, объясняет, что мне нужно идти направо, миновать два поворота, дальше около большого креста повернуть направо, и потом по правой же стороне я увижу могилу Чиллы. Позже снова спрашиваю, на сей раз пожилую женщину, пришедшую, скорее всего, на могилу мужа, и она терпеливо растолковывает мне, как я должен идти. Интерес именно к этой могиле не вызывает у нее удивления, все здешние жители, по-видимому, знают, где лежит эта молодая, умершая двадцать лет назад девушка. Наконец я ее нахожу: этот памятник — самый светлый на всем кладбище, и, если бы я выражался высокопарно, написал бы, что от него исходит некое сияние и даже искусственные цветы на надгробной плите кажутся настоящими. Что фигура, высеченная на стеле в манере рисунков Вильяма Блейка, выглядит так, будто через мгновение отделится от камня и, расправив плечи, зашагает по аллейкам кладбища в Капошваре, хотя я совершенно не могу себе представить, куда, собственно говоря, она могла бы пойти и чего искать.