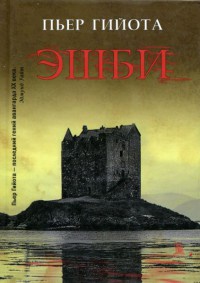Книга Архитектор - Анна Ефименко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Это Хорхе. Как у тебя так получилось?
– Ах вот оно что! – довольно воскликнул витражист. – Сказать по правде, я думал о тебе, когда лепил его. Представлял тебя стариком. Хотел угодить…
– Простил ли ты мне смерть Агнессы, Жозеф?
Услышав ее имя, друг вздрагивает, но сразу же возвращает самообладание:
– Знаешь, что краски не смешивают? Их накладывают друг на друга, наслаивают, но не смешивают. Смешение само по себе нечестно. Это попытка изменить природу. Обмануть Творца, приятель, уж тебе-то не догадаться! Поэтому все, кто смешивают, отчасти мечены колдовством. Например, аптекари. Кстати, Ансельм, я тоже спал с его женой!..
Он не переживал об Агнессе. Всегда являлась обузой, хоть нынче освободился. С каким упоением он погружался в свое искусство. Завидуя ему в этом, я подражал, как мог, и занимался окнами, скульптурами, чертенятами на водостоках, что выливали из своих ртов дождь, выстреливая, уводя как можно дальше на улицу от основания здания, чтобы не подмыть фундамент, чтобы не разрушить капля за каплей весь Собор. Водой.
– Мы большие молодцы, фра, – итожит Жозеф, – у тех и жизни не хватает на то, чтобы закончить Собор. А мы вон как продвинулись! Долго запрягали, да быстро понеслись. Авось даже и освятим до того, как преставимся. Мы молодцы, как ни крути.
Общая тайна покоится между нами разоренной капеллой, поросшей мхом, в дремучем лесу, в выжженном Городе, на дне реки.
– Простил ли ты мне гибель твоей сестры?
– Горбыльки или полоски, – Жозеф деловито перечисляет инструментарий, – они соединяют кусочки цветного стекла… Без цвета никуда. Образы тем святее, чем ярче раскрашены.
Впредь я стараюсь не отставать и даже не ухожу в камень, а превращаюсь в него, в меру возможностей, чем дальше, тем фатальнее.
Это же в какие тиски нужно было зажать, какими цепями сковать, чтобы труд и созидание стали единственной свободой? Мог бы всю жизнь воздвигать хоромины, лечить проплешины домов, мог бы воспитывать детей с Люсией, обучать их грамоте, мог бы стать немного более симпатичным и удобным, приветливым и простым, легко читаемым.
«Уснешь под орехом – получишь лихорадку. Давай лучше вернемся на стройку!» Жозеф сварливо вышвыривал меня из загородных настилов зелени, из вязких берегов, он знал самое действенное лекарство против моих раздумий.
Никто кроме меня не хотел этого. Никто не жаждал из пустоты возводить этот проклятый Собор. С течением жизни я делался все более похожим на него, заостряясь конечностями, все дальше и дальше худея, истончаясь до полупрозрачности, стоя вытянутым столбом, исхлестанным дождями и бурями. Собор рос из меня изначально, вбирая в свой облик мои черты, будто перенимая родительское лицо по наследству. Так мы, уже слипшиеся, уже почти одинаковые, смотрели друг на друга сквозь незримое зеркало, через воду, через суматошный гул Города. И чем меньше во мне оставалось чего бы то или кого бы то ни было, чем меньше низменные страсти оживляли меня, тем ярче и сильнее билось одно лишь желание – окончить строительство.
Оно, это желание, подхватив однажды, несло над облаками многие лета, выше громких почестей, выше ангельских крыльев, помогало переступить невзгоды и лишения, заставляя среди всякого сборища черни или под уколами слов продолжать смотреть вверх. Оно, несущее меня по небу, меня же и кидало оземь, о твердолобые мостовые, и волоком тащило по дворам и площадям, срывая мои одежды, сдирая мою кожу, мешая с грязью мое лицо и стирая в прах мое имя – оно всегда было сильнее, оно пинком подталкивало вперед, оно заставляло жить дальше.
De Profundis
Псалом 129
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой:
да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего.
Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у Тебя умилостивление.
Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, положилась душа моя на слово Твоё, уповала душа моя на Господа.
От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа.
Ибо у Господа милость, и велико у Него избавление, и Он избавит Израиль от всех беззаконий его.
– Фигуры людей и животных конструируются путем вписываемых комбинаций геометрических форм. Хочешь так построить какую-нибудь зверушку, а потом Гийом превратит ее в скульптуру?
Пустые глаза Люкс не выражали ни малейшего воодушевления. Навязанное учение она терпела исключительно ради моего присутствия. И я решился на последнюю отчаянную меру.
Пригнувшись и зажмурившись, я поцеловал Люкс. Она загребла меня такой страстносвирепой хваткой, что стало не по себе: откуда с ее крошечным сложением столько силы? Это было глупо, отвратительно и подло. Какая низость прибегать к последнему, что ее держит подле меня – к телесному притяжению! Мне не нравился ее запах, вызывало отторжение ее лицо, слюна заходила в узкой трубке горла, закипела в рвотном позыве.
– Я не могу, – моя коронная фраза, – ничего не произошло!
– Ты о чем?
– Ну, адская пропасть и наказание за грех. Ни один пинаклик не упал, – я смотрел на Собор, остерегаясь сколь угодно фантастической западни.
– Это пока что, – Люкс пожала плечами. – Не понравилось?
Я тоже пожал плечами.
– Тогда зачем начал?
– Мне кажется, тебе больше не интересно со мной разговаривать как раньше. Будто твоя вежливость иссякла, а мой авторитет для тебя ничего не значит.
Она уставилась в никуда.
– Люкс!
Цыганка встрепенулась. Я вскинул палец наверх, в сторону шпиля.
– Люкс, тебе ведь плевать на все это?
Вновь нетерпеливое дерганье. Она начала давно заготовленную речь:
– Помнишь, как это было раньше? Когда ты был сопливым свеженазначенным хозяином цеха, который мчался ночью от Флорана, м? – она развернула мою ладонь, и, притянув к себе, со смехом чмокнула ее. – Мой недооцененный горемыка-архитектор!
От ее гипнотического взгляда снова загорелись щеки.
– Никогда прежде ты ничего подобного не говорила.
– Может быть, потому что всегда говорил ты? – Люкс все-таки отошла от меня, направляясь прочь, подальше, на все четыре, только бы не со мной. – И ты прав, сеньор, мне и впрямь плевать на твою стройку. Она длится всю жизнь и уже совсем меня не занимает.
Как быстро она выросла, думалось мне. Как быстро я ей надоел.
Птичьими переливами зачиналось утро. Прошмыгнув в мастерскую, набрасывала свой колючий платок на меня: угадай, кто пришел! И я перекидывал ее, игрушечную, через себя, усаживал себе на колени, чугун затекшего тела, показывая, как правильно держать стило, как чиркать буковки, как их обвязывать в слова. Люкс хотела писать одно имя, Ансельм, иногда с вариацией Ах! Мой! Ансельм, что категорически впоследствии запрещал и мучил ее копированием псалмов, мое бедное нелюбимое чужеземное чадо! Я пробовал расшевелить ее полетом шпиля, ветровым распором, изображением Христа во Славе на Королевском портале, или величием верхнего ряда окон, аркадами или поясом трифория, но получал такой некультурный отказ или подчеркнуто безразличный вид, в результате чего бессильно отпускал и ее саму. Тогда она, забредя в приют Бланш, лила елей на прощание: «Добрых снов, папочка», а после, выждав, когда я скроюсь за домами, цедила сквозь зубы: «Ансельм Грабенский, ну ты и дерьмо».