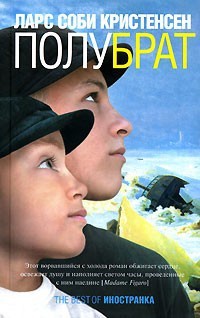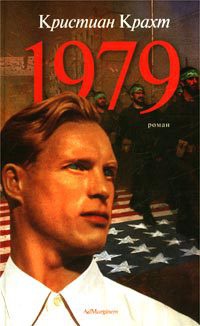Книга Цирк Кристенсена - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из-за угла донесся свист, старая дама подзывала пуделя, и он побежал в сторону Ураниенборга.
Вообще-то мне давно пора было уйти, но я хотел увидеть.
Путте вышел из «Человека на лестнице» не с чем-нибудь, но с последним номером «Аллерс», свернутым в трубку и перехваченным резинкой от банки с вареньем.
— Ты еще здесь?
Я встал.
— Ты же сказал, чтобы я посторожил мопед.
— Думаешь, получишь назад свои денежки, да, жид несчастный?
Путте говорил с трудом, едва ворочал языком, столько накопил слюней.
— Нет, — сказал я.
Он пристроил журнал на багажнике, пятерней дважды зачесал волосы назад.
— На что уставился?
— Ни на что.
Он сел на мопед, водрузил шлем на колени и повторил:
— На что уставился?
— Ни на что, — повторил я.
Обеими руками Путте поднял шлем, помедлил, глянул на меня.
Возможно, в эту самую минуту я и заработал экстрасистолию, неровное сердцебиение, возможно, с тех пор мой метроном и отбивает ритм для всех песен разом.
— Ты вроде бы спешил, а, скупердяй? — спросил он.
— Уже не спешу.
И Путте нахлобучил на голову тесный шлем.
Я успел увидеть его пустой и вместе с тем очумелый взгляд, когда собачья моча полилась по внутренней стороне забрала, затянула его физиономию желтой маской и закапала ему в рот. Путте попытался стянуть шлем, но тот застрял. Путте что-то крикнул, но расслышать было невозможно, потому что его вырвало, и он вместе с мопедом упал прямо тут, на углу Эйлерт-Сундтс- и Ренхеденс-гате.
Пожалуй, довольно о Путте.
Четыре года спустя он, кстати говоря, умер, когда где-то в Северном море упал с трапа теплохода «Куйяхога», на пути домой, в Норвегию, в Осло, из Марина-де-Каррара через Барселону. В общем, ушел он недалеко. Одни говорят, он был пьян. Другие говорят, кто-то его подтолкнул. Третьи твердят то и другое. Так или иначе, умер он мгновенно. Ничего не поделаешь. Несчастный случай. Бывает. На то он и несчастный случай. Оставшуюся часть пути Путте лежал в морозильной камере, не страдал ни морской болезнью, ни хамством. Но на борту «Куйяхоги» находился также почти забытый теперь, вернее обойденный, художник П. В. У них с Путте было кое-что общее. Обоих в море послали отцы, чтобы каждый на свой лад закалился, сделал выбор, решился, не обязательно на что-то большое, только не на то, чем они норовили стать, а именно бандитом и художником. П. В. все равно стал художником. Путте умер. Чей отец горевал больше? И тогда как Путте вызывал на борту все большую неприязнь, ведь он был скандалист, трус и хитрован, П. В., к собственному удивлению, совершил прямо противоположное, завоевал всеобщую любовь, рисуя портреты матросов, даже весьма похожие, причем в хорошем смысле. Некоторые из этих рисунков позднее приобрели галереи и музеи, в том числе портрет Путте, где он сидит в барселонском «Текила-баре», за несколько суток до смерти, это романтический, чуть ли не героический портрет молодого моряка, этакого лося на закате для бессонных мечтателей, Путте позирует, старается выглядеть не таким, каков он есть, и П. В. изображает его таким, каков он есть и каков не есть, вот его искусство. И все же меня раздражает, прямо-таки до невозможности, хотя обычно я, думается, человек выдержанный, терпеливый, — раздражает, что этот хам, эта чума и зараза, этот нацист на мопеде, сиречь Путте, так и останется в молодом, порывистом наброске П. В., который тоже погиб в результате несчастного случая, не так давно, он спас дочку, а сам пожертвовал жизнью, и таким образом у них с Путте появилось еще кое-что общее, своего рода симметрия поверх времени, а именно внезапная смерть. Лично я буду помнить Путте в шлеме, полном собачьей мочи. Для меня он останется таким.
Повторяю: о Путте довольно, и более чем.
Когда я катил домой, в очень хорошем настроении, пошел снег. Первую снежинку я заметил на Бюгдёй-алле, она возникла ниоткуда, с высокого чистого неба, я в жизни не видел столь одинокой снежинки, которая порхала среди голых деревьев, и опустилась наземь возле витрины «Музыки и нот» Бруна, и осталась там лежать словно белый медиатор.
В Шиллебекке сугробы вдоль улиц были уже выше мусорных ящиков.
Я поставил велосипед в подвал, среди лыж и деревянных чурбаков, вымыл раму, почистил цепь и втулку, а когда прочищал спицы, в подвал спустился отец. Сперва он молчал. Потом сунул мне ветошь, чтобы вытереть руки. Я так и сделал.
— Каждый год одинаково неожиданно, — сказал отец.
— Что?
— Снег.
— Это верно, — согласился я, бросив ветошь на пол.
— Сколько же всего ты заработал? — спросил он.
— Точно не знаю, — ответил я.
— А надо бы.
Я снял с багажника картонную коробку, топнул по ней ногой, расплющил.
Отец наблюдал за мной.
— Я подумал насчет гитары, — сказал он.
Я повернулся к нему.
— Да?
— И насчет энциклопедии тоже.
Я начал терять терпение.
— Ты к чему клонишь?
— Наверно, лучше купить на эти деньги фотоаппарат.
— Мне совершенно не хочется иметь фотоаппарат.
Отец комкал в руках грязную ветошь.
— Мама наверняка сможет купить с небольшой скидкой.
— У тебя плохо со слухом, а?
Отец недоуменно взглянул на меня, разорвал тряпку напополам и запихнул обрывки в карманы.
— Что ты сказал?
— Ничего.
Я запер велосипед. Здесь он и будет стоять всю зиму, на замке, в подвале.
Отец положил руку мне на плечо.
— А лучше всего просто копить деньги.
По тихой лестнице мы поднялись в квартиру, к маме.
У меня набралось 736 крон 20 эре. Недоставало 1513 крон и 80 эре. Я даже полпути не одолел.
Снег все шел и шел.
Желтый снегоочиститель громыхал каждую ночь.
Настал декабрь, и спрос на цветы был, как никогда, огромный. У меня мелькнула мысль стать на лыжи, но, к счастью, дальше мысли дело не пошло, ведь снежный покров менялся от угла до угла, а мне было вовсе неохота то и дело смазывать лыжи, добираясь от Улаф-Буллс-плас в Санкт-Хансхёуген. Я ходил пешком. Разносил цветы. Носил мрачные венки в Западный крематорий, для большинства умерших в декабре. Ходил с красивыми яркими букетами в женскую клинику на Юсефинес-гате, потому что и детей в декабре рождалось много. Знакомился с новыми адресами и заносил их в нужные места Библии разносчика цветов: Дамстредет, Стенсгатен, Инкогнито-террассе, Грённ-гате, Арбиенс-гате, даже Дункерс-гате там была, я шел следом за снегоочистителем, но однажды мне пришлось искать укрытия за сугробами на Тидеманнс-гате, у Лунна, в «Фотоаппаратах и пленке». Как раз в тот день мама работала. Сидела на стуле в углу, в пальто, выглядела потерянной, и я, воображавший, что здесь она всегда счастлива, как бы застал ее на месте преступления и прямо-таки не сразу узнал, пока она в конце концов не разглядела, что это я, а мне захотелось отвернуться.