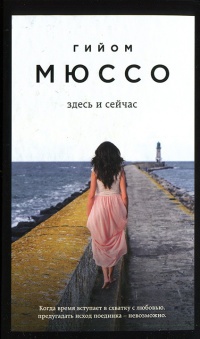Книга Улетающий Монахов - Андрей Битов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стараясь не нашуметь, не скрипнуть, Монахов сделал три тяжелых шага и грузно опустился на маленький стульчик у стены. Он смотрел на узкую щель света из-под двери и прислушивался. Только сев, он почувствовал, как устал. Некоторое время он тупо смотрел в призрачные мерцающие окна и ничего не думал. Глаза уже хорошо видели в темноте. Он разглядел даже портрет кудрявого мальчика на стене, когда дверь приоткрылась, свет кубом вошел в комнату, выхватив из нее Монахова, и в комнату проскользнула Ася. Она была уже в халатике. «Жив!» — сказала она, смеясь. Лицо ее было диковато и красиво. «Жив», — сказал он. Ася порывисто обняла его, по-юному неумело прижав его голову к груди и так на секунду застыв в неловкой позе. Монахову какое-то неудобство в шее, и дышать трудно… Он деревенел в ее объятиях и ничего не чувствовал. Ася вдруг отодвинулась и присела перед ним на корточки. «Ты что? — сказала она, держа его голову в руках, как бы повертывая и разглядывая. — Ты это что?» Монахов молчал. «Ладно, — сказала она, — посиди еще немного. Я сейчас приду». Она резко поднялась. «На», — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. «Ева, — сказал он. — Адам…» Он укусил яблоко — ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом. Где-то под ним, над ним, со всех сторон, спали дети, как личинки. Монахов располагал этих детей в заплечном своем пространстве, но они были неодушевленными для него. «Эти яблочки им давали сегодня на третье…» — сообразил он. Он понял, что ничего не хочет и не ждет, и ему стало гадко от себя. Ася была ему как бы понятна и казалась прекрасной, он же сам себе сильно не нравился, потому что, казалось ему, должен был сейчас быть в некой бурс чувств и желаний, иначе как бы он тут оказался, среди ночи, в спящем детском саду, в комнате для игр? Что бы его сюда привело, взрослого, солидного человека? с семьей и положением? Он подумал, что все какая-то кошмарная, кромешная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей, и там, где мы (он думал о себе во множественном числе) осознаем, что чего-то хотим, то уже и не хотим, а хотим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит. Что желание и не есть желание в том смысле, в котором можно рассказать о нем и итожить его, а что-то вовсе другое. Что желание теряется где-то на полдороге и чуть ли не при первом шаге… И даже безрассудство — вовсе не доказательство силы желаний и чувств, а лишь свидетельство нашей к ним неспособности. Одна лишь видимость решительности, на самом деле — полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так — что этак… Верность любого обобщения испугала Монахова.
Когда, в детстве, были реальны чувства — нереальны были люди: они были носители, объекты, они были — образы. Когда опыт придал людям реальность в наших глазах: вот они перед нами, объективные как есть, объемны, без суда, — нереальны стали наши чувства. Теперь чувство стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ: не любовь — образ любви, не измена — образ измены, образ дружбы, труда, дела и т. д. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств. У него появился выбор там, где раньше чувство не предоставляло выбора: любит — не любит, сделать — не сделать, поступить — не поступить… И оба варианта, но опыту, вдруг оказались однозначны, равновеликий выбор…
Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным в своей неправдоподобности. «Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить…» — горько усмехался Монахов. Господи! как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет — сам опыт, его наличие. Какая нечистота!
Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно, внушением, убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный, маленький, внутренний грохот, в полной, глухой тишине. «И мы в тиши…»— какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем. «И мы в тиши та-та-та-та-та…» Откуда, чьи?.. Они очень нравились ему когда-то — это он вспомнил, — волновали его. Хотя он их не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились…
И мы в тиши полураспада
На стульях маленьких сидим… —
только и удалось вспомнить ему теперь. И тут холодный восторг понимания, полного понимания этих невнятных строк поразил его. Надо же! Как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен — он прежде всего всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике, в такой уж тиши… У-ди-ви-тель-но! «Это о нем, именно так, правильно, так…» — с уничижающим восторгом думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит… Слезы наполнили ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд — но уже не получалось, уже прервалось. Разучился… И он лишь длил их, две сладкие большие слезы, боясь сморгнуть.
Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздались голоса, возбужденные, они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой — неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не екало — размеренно билось его сердце, и, даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы.
Но Ася переубедила, шаги, голоса стали удаляться, и тогда в Монахове что-то испарилось и исчезло, как то же облачко. Он смотрел в окна — они, пожалуй, посветлели: стулья и кони выплыли из углов и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после всех этих ненужных осмотров и записей и тихо лечь и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко — однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвигал предчувствия расплаты и даже подумал: за что и какая тут может быть расплата? Просто объяснить ничего никому по правде невозможно… Ну, соврет что-нибудь: жена-то в больнице, а мать его не выдаст… Тут же он морщился от подобных своих соображений, но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась.
И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате издалека, отчужденно. И лишь секунду какую-то было Монахову неприятно, что и Ася — тоже, что в ней тоже кончилось, словно этих перевязанных ленточкой писем было все-таки жаль, словно, давно потеряв Асю, все еще мог он ее терять… Но это лишь на секунду — он тут же внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее.
— Ты знаешь, — вяло сказала Ася, — там стерва одна что-то заподозрила… Придется тебе сейчас уйти. Ну дождется она у меня! — Тут у Аси в голосе появилось чувство. — Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала…