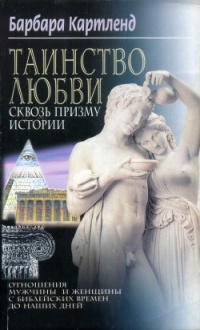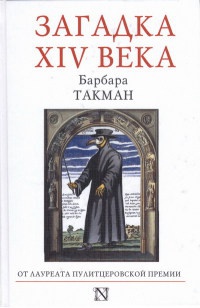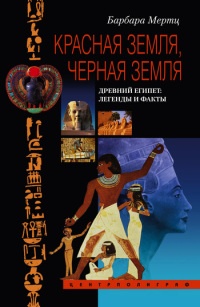Книга Ивановна, или Девица из Москвы - Барбара Хофланд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вчера, готовясь к нашему путешествию, а дело это весьма трудное, начиная с того, что лошадей не достать, я проходил мимо полуразвалившейся лачуги, откуда услышал тихие жалостные стоны, будто от сильной боли. Боже мой! Я слышал стоны так часто, Джон, и давно уже отказался от мысли оказывать помощь, что двинулся дальше, решив, что не стоит останавливаться. А тут услышал женский голос, думаю, самый нежный из всех, что слышал с тех пор, как покинул старую добрую Англию, кроме голоса леди Иуайнона, но я знал, что это не может быть она, потому как только что оставил ее во дворце, который, кстати, мы приспособили для проживания многих бездомных во главе, так сказать, с супружеской парой стариков. Так вот, услышав этот нежный голос, я вернулся и, войдя в разбитую лачугу, увидел бедную женщину, лежащую на куче золы, как на постели, и явно умирающую от голода. Около нее лежала девушка лет семнадцати, по внешнему виду такая же слабенькая и голодная, как и ее мать. Девушка крепко обнимала умирающую, будто поддерживая в ней теплом своего тела оставшуюся малюсенькую искорку жизни. Бедная девочка приподнялась, завидев меня, но я жестом показал ей оставаться возле матери. И так как я никогда не выхожу без маленького запаса еды, то немедленно отдал его девушке вместе с небольшой бутылочкой спиртного. Женщина была уже не в состоянии принимать хоть какую-то пищу, а дочь, видно, тревожилась только о ней и не притронулась к еде, пока мать взглядом, который я никогда не забуду, не упросила ее поесть, чтобы выжить. Я понимал, что бедняжка уже на пороге смерти, и хотел только, чтоб услышала она мое обещание оберегать ее дочь, но мои слова, с трудом выговоренные, явно встревожили умирающую, и она на мгновение будто вернулась к жизни лишь для того, чтобы предостеречь дочь против меня. Напрасно я старался доказать невинность моих намерений, пыл моих клятвенных уверений только пробудил новые страхи в бедной дрожавшей девушке, и она, снова опустив голову, сказала спокойным, но решительным тоном:
«Спасибо, незнакомец, но я хочу умереть вместе со своей матерью. Отец убит на войне, брат пал при Бородино, война раскидала всех моих родственников, почему же Элизабет должна выжить?»
При этих словах Элизабет ко мне вернулись утерянные было чувства, и я тут же понял, что это бедное дитя послано нам Небесами. Я выбежал из лачуги, которая, по счастью, находилась рядом с дворцом, нашел молодую госпожу, схватил ее за руку и упросил пойти вместе со мной. Она вышла без колебаний, ибо уже не боялась французов. Думаю, Джон, что, когда я вернулся в ту несчастную дыру вместе с нашим ангелом, я испытывал гордость, какую испытывал римский завоеватель, с триумфом возвратившийся в свой родной город.
Бедная женщина была теперь в предсмертной агонии, но, видно, еще в сознании, потому как с большой радостью вглядывалась в леди Иуайнона, которая, похоже, оказалась ей знакома. Женщина подняла голову и невнятно вроде как о чем-то попросила, но этого вовсе и не нужно было, поскольку наше прекрасное создание, к которому она обращалась, опустилось на колени и с величайшей нежностью заверило умирающую, что позаботится об Элизабет, сказав: «Позвольте мне утешить вас в последние минуты вашей жизни. Ваше дитя всегда найдет друга в доме графа Долгорукого».
Женщина, видно, все услышала и поняла, потому как, когда ухо ее уловило последнее слово, радость осветила ее бледное лицо и засияла в ее глазах. И, едва выговорив благодарность Господу, она испустила дух.
Элизабет, опустившись на колени, слабыми руками обхватила свою защитницу, и в эту минуту в лачугу вошел сэр Эдвард и увидел перед собой эту печальную картину.
Вдвоем с моим господином мы перенесли Элизабет во дворец, где наша добрая госпожа поделилась с ней своей одеждой, радуясь тому, что будет путешествовать в женской компании. Утром этого дня бедняжка похоронила мать и теперь, немного придя в себя, с благодарностью принимала заботу, которая спасала ее от погибели. Ее здоровье и красота будто начали восстанавливаться. Когда я заговорил с ней, она слегка покраснела, вроде как застыдилась того, что ее мать не доверяла мне. Не знаю, как получилось, но как раз, когда сэр Эдвард взглянул на нее, я почувствовал, что мое собственное лицо заливает краской, горячей, как огонь. С тех пор я всегда злюсь на себя из-за этого, поскольку у меня было такое чувство, будто меня на чем-то застукали, хотя я уверен, что и не застукал никто. Всего-то и было у меня на уме: «Миленькая моя, ты как поникший цветочек! Но я буду охранять тебя и верну тебя к жизни!» Но вслух-то я не произнес ни слова. И не думаю, что мой хозяин хотел выставить меня на посмешище, нет, не делал он этого.
Ты, верно, думаешь, что не стоит говорить так много о бедняжке, покрытой, как Золушка, грязью и золой, когда лучше бы рассказывать тебе о том, что Бони в это самое время полностью разгромлен и не знает, по какой дороге ему убегать; и что несчастные изгнанные жители Москвы начинают возвращаться из своих лесов и укрытий и строить маленькие деревянные домишки, чтобы оберечься от суровых холодов, которые уже погубили многих из них, но все же еще больше — их врагов. В самом деле, страдания несчастных солдат, которые родились в мягком климате и прежде служили только в теплых странах — за пределами того, что ты можешь себе представить. Все их лошади пали, частью от голода, но по большей части от холода, нередко замерзая стоя. Должен признаться, Джон, когда я про это услышал, то очень опечалился, потому как всем сердцем люблю хороших лошадей. А кроме того, понимаешь, лошади ведь ни в чем не виноваты, несчастные создания, так что для англичанина вполне естественно пожалеть их.
Когда получишь следующее письмо, Джон, я, надеюсь, буду уже в Петербурге, где в домах есть хорошие печки и много еды. Хозяин так изменился, что не могу тебе сказать, останемся ли мы там или вернемся в Ригу. Потому что достаточно ясно вижу, что он сам толком не знает, чего хочет, а стало быть, и я не знаю. По-моему, так он совершенно влюблен в Иуайнони, и считаю, что это вполне естественно для него. Но любовь в этих северных странах вовсе не такова, что у нас. Вместо того чтобы делать мужчину по двадцать раз на дню то оживленным и веселым, то раздражительным и угрюмым, то вверх, то вниз, подобно волану, здесь в России она делает его тихим и спокойнейшим, молчаливым, как статуя, и добродетельным, как святой. Не скажу, что влюбленному лучше быть именно таким, но англичане все-таки гораздо забавнее, хотя, когда сэр Эдвард был сражен леди Белл Сеймур, мне это доставляло много хлопот. Поскольку она все время не давала ему покоя своими капризами и флиртами, мы скакали из Оксфорда в Лондон, из Лондона в Парк, точно жареный горох на сковородке. Тогда я сказал себе вот что: «Я никогда не влюблюсь ни в одну женщину, чтоб не было этих ревностей, причуд и всякого такого». Поэтому, когда я встретил Салли Браун (ты помнишь Салли, Джон, у нее еще такие распрекрасные голубые глаза, огромные, как у леди Иуайноне), послушай, когда я понял, что она, похоже, слишком капризная, я тут же порвал с ней. Поскольку, видишь ли, благодаря моему хозяину понял, каким дураком буду выглядеть, и я такого не выдержал бы. Нет, я чувствую, такое накатывает на меня время от времени, Джон, признаюсь. Но мужчине лучше уж сомневаться, такое он в состоянии претерпеть и скрыть, нежели мучиться пляской святого Витта и жаловаться каждому встречному и поперечному. А такое происходит со всеми теми, кто имел несчастье влюбиться в великих красавиц, знающих свою силу. Все эти красавицы, по сути, своего рода Бонопарты. Сначала они вторгаются в ваше сердце — потом поджигают все, что в нем может гореть, — а потом уставятся вам в глаза и говорят, что вы сами все это натворили. Ох, злодейки! Но я умываю руки ото всего от этого, и до конца дней моих больше не буду оказывать внимание женщине, кроме тех случаев, когда надо помочь той, что попала в беду, потому что это естественно, ты же понимаешь, Джон, и, как я сказал Элизабет, каждый англичанин так и должен поступать. На том, Джон, остаюсь твоим верным другом и доброжелателем,