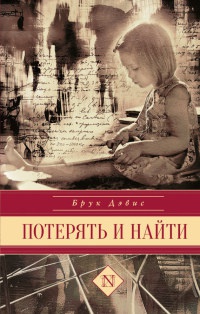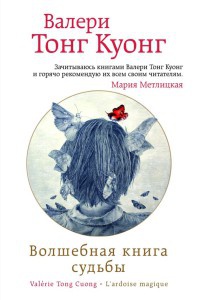Книга Суперканны - Джеймс Грэм Баллард
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы имеете в виду Джейн? Ну, она только кажется девчонкой.
— Я с ней работаю, Пол. Она так умна — мне до нее как до небес. В сельской Испании, кстати, до сих пор распространены браки среди подростков. Это способствует быстрому половому созреванию и ускоряет воспроизводство молодых сельскохозяйственных рабочих. Ну, а как насчет ваших соседей?
— Мы встречались с Делажами. Очень новые европейцы и крайне любезные. Миссис Ясуда мне кланяется, но ближе чем на тридцать футов я к ней не приближался.
— Люди в «Эдем-Олимпии» держатся особняком. Мы над этой проблемой работаем. Добравшись до дому, они хотят посидеть в одиночестве, выпить мартини, поплавать в бассейне. Их общественная жизнь целиком проходит в офисах.
— Похоже, это какая-то ошибка в системе. Мы с Джейн ездим в Канны, чтобы поговорить с туристами за соседним столиком.
— Я тоже это пробовал. Дико, правда? — Пенроуз понизил голос. — Они вам не кажутся какими-то странными?
— Туристы в Каннах?
— Люди вне «Эдем-Олимпии». Не тот размах. Им не хватает чувства уверенности в себе. Они бродят по Круазетт, говорят о своих рейсах на Дюссельдорф и Кливленд, но все это — ненастоящее. Если посмотреть на них отстраненным взглядом, то туристы — это очень странное явление. Миллионы людей с одного конца света приезжают на другой, чтобы побродить по незнакомым городам. Вероятно, туризм — последний остающийся реликт Великого переселения народов — того, что было в бронзовом веке.
— Значит, им лучше сидеть по домам?
— Да. Но это им не поможет. Поезжайте в Канны и гляньте вокруг повнимательней — кассирши в «Монопри», шофер, прогуливающий пуделя, дантист, ведущий свою секретаршу на «cinque à sept»[8]в третьеразрядную гостиничку. Они похожи на актеров, которые исполняют свои роли, даже не замечая, что съемки уже ведутся совсем в другом месте.
— В «Эдем-Олимпии»? Я еще не видел сценария.
— Он пока пишется. Мы все будем участвовать — Делажи, вы с Джейн и миссис Ясуда. Это единственный сценарий, который имеет значение.
— Постойте-ка. — Я допил вино и поставил пустой бокал перед Пенроузом — интересно, сколько времени ему потребуется, чтобы его опрокинуть. — Герои назначают свидания только в офисе. Никакой тебе драматургии, никакого конфликта. Никаких клубов, никаких вечерних кружков…
— Нам они не нужны. От них нет никакого проку.
— Никакой благотворительности, никаких церковных праздников. Никаких представлений для сбора пожертвований.
— Все и так богаты. Или, по меньшей мере, неплохо обеспечены.
— Никакой полиции, никакого судопроизводства.
— Здесь нет преступности и социальных проблем.
— Никакой демократической отчетности. Никто не голосует. Кто же дергает за ниточки?
— Мы. Мы дергаем за ниточки. — В голосе Пенроуза слышались утешительные нотки; он показывал свои жуткие обкусанные ногти, словно желая продемонстрировать: я уязвим, но искренен. — Давным-давно люди считали самим собой разумеющимся, что в будущем будет больше времени для досуга. И это справедливо — для неумех и бесталанных личностей, которые мало что могут внести в общую копилку.
— Например?
— Поэты, регулировщики уличного движения, экологи… — Пенроуз сделал неопределенный жест рукой и зацепил мой бокал из-под вина. Смущенный своей неловкостью, он снова поставил его на стол и продолжил: — Я знаю, что говорю вещи несправедливые, но вы со мной согласитесь. Для талантливых и честолюбивых будущее — работа, а не игра.
— Мрачновато. И никакого тебе отдыха?
— Только особого рода. Поговорите со здешними управленцами высшего звена. Они выше досуга. Игра в мячики разных форм и размеров… — Пенроуз прикусил язык и на несколько мгновений замолчал, скривив губы. — Они с этим давно расстались — еще в школе. Работа — вот что дает им истинное удовлетворение: возглавлять инвестиционный банк, проектировать аэропорт, налаживать производство нового семейства антибиотиков. Если люди довольны своей работой, досуг — в старомодном понимании этого слова — им ни к чему. Никто никогда не спрашивает, как отдыхали Ньютон или Дарвин или как проводил выходные Бах. В «Эдем-Олимпии» работа — это высшая степень игры, а игра — высшая степень работы.
— Не хватает только одного звена. Я здесь вижу только здания офисов и парковки в искусственном ландшафте. А как быть с законом и церковью? Где же старые нравственные ориентиры, которые должны все это цементировать?
— Они отпали. Мы отбросили их за ненадобностью, как вы выкинули свои скобы, когда прочно встали на ноги.
— Значит, «Эдем-Олимпия» выше нравственности?
— В некотором смысле — да. — Старательно следя за своими неуклюжими руками, Пенроуз переставил мой бокал на соседний столик. — Не забывайте, Пол, что старая нравственность принадлежала более дикому периоду человеческого развития. Ей приходилось иметь дело со стадом охотников и собирателей, которое только покинуло долину Серенгети{43}. Первые религии были предназначены для приматов, которые еще и сообщества-то не успели толком образовать и, дай им только шанс, готовы были поотрывать друг у друга руки-ноги. Поскольку сдерживать свои порывы они еще не научились, то им были нужны моральные табу, которые бы делали это за них.
— Значит, прощай, старая нравственность? А что вместо нее?
— Свобода. Транснациональные гиганты вроде «Фуджи» или «Дженерал Моторс» создают собственную нравственность. Компания составляет правила, которые регулируют ваши отношения с супругой, устанавливают, где должны получать образование ваши дети, определяют разумные пределы вложений в фондовый рынок. Банк решает, какой кредит можно вам дать, сколько вы должны заплатить за свою медицинскую страховку. Нравственных или безнравственных поступков больше нет, как нет их, скажем, на суперсовременном шоссе. Если только вы не сидите за рулем «феррари», давить на акселератор не является нравственным или безнравственным поступком. «Форд», «фиат» и «тойота» спроектированы на основе принципа разумной управляемости. Мы можем положиться на их оценку ситуации, а значит, во всем остальном вольны делать, что нам заблагорассудится. Мы достигли настоящей свободы — свободы от нравственности.
Пенроуз откинулся к спинке стула, руки его застыли в воздухе — отчасти колдун, отчасти проповедник-фундаменталист. Он наблюдал за моей реакцией — ему не столько хотелось обратить меня в свою веру, сколько услышать, как я, нехотя, сквозь зубы, пробурчу, что он, вероятно, прав. В какой-то момент его жизни, может, в медицинской школе или во время стажировки в качестве психиатра, кто-то отказался принимать его всерьез.
Ничуть не убежденный его речью, я возразил:
— Это что-то вроде билета в оруэлловский «Восемьдесят четвертый год», только на сей раз маршрут крайне живописный. А я полагал, что руководитель-бюрократ исчез как вид в шестидесятые.